|
||||
|
|
ЧАСТЬ I. КАК ВОЙТИ В «ДОМ КОЛДУНЬИ»?.. Глава 1. Человек в поисках Тайны (древняя традиция или новое направление?)
Дом у каждого свой. Неожиданный образ «дома колдуньи» находим в поэме М. Цветаевой «Переулочки»: «Две колдобины. Тень. В этом доме звоньба, урчба и Тайна. А еще — колдунья, профессионально владеющая языком, задуряющая. Страшен и притягателен «дом колдуньи» и нет спасения от этого совершенного зла, ведущего к смерти. Или к просветлению? Поэма написана М. И. Цветаевой в апреле 1922 года по мотивам известной былины «Добрыня и Маринка». Цветаева переосмыслила фольклорный сюжет и сместила в нем акценты. По былине, живущая на киевской Игнатьевской улице Марина Игнатьевна — колдунья, чародейка и «распутница». Сжигая следы Добрыни, она пытается приворожить его, однако погибает от его справедливой карающей руки. В поэме Цветаевой герой безымянен, абстрактен и пассивен. Героиня (тоже безымянная) — мудрая, сильная, хотя и грешная женщина, одерживает победу. Она завораживает, заговаривает, «задуряет» «доброго молодца» не только и не столько земными соблазнами, сколько небесными, райскими. «„Переулочки“... история последнего обольщения (душою, в просторечии: высотою)», — писала Цветаева. Сама Марина Ивановна так объясняла свою поэму корреспонденту-критику Ю. Иваску спустя 15 лет: «Раскройте былины и найдите былину о Маринке, живущей в Игнатьевских переулочках и за пологом колдующей — обращающей добрых молодцев в туровзадуряющей. У меня — словами, болтовней, под шумок которой все и делается: уж полог не полог — а парус, а вот и речка, а вот и рыбка и т. д. И лейтмотив один: соблазн, сначала „яблочками“, потом речною радугою, потом огненной бездной, потом — седьмыми небесами... Она — морока и играет самым страшным. А конь (голос коня) — его богатырство, зовущее и ржущее, пытается разрушить чары, и — как всегда — тщетно, ибо одолела — она: Турий след у ворот — то есть еще один тур и дур». По оценке самой поэтессы, с одной стороны, «эту вещь из всех моих... больше всего любили в России, ее понимали, то есть от нее обмирали — все, каждый грамотный курсант». А с другой стороны, Цветаева писала Б. Пастернаку о поэме 10 марта 1923 г.: «Очень хочу, чтобы Вы мне написали о „Переулочках“, что встает? Фабула (связь) ни до кого не доходит, — только до одного дошла: Чаброва, кому и посвятила, но у него дважды было воспаление мозга! Для меня вещь ясна, как день, все сказано. Другие слышат только шумы, и это для меня оскорбительно. Это, пожалуй, моя любимая вещь, написанная, мне нужно и важно знать, как — Вам. Доходят ли все три царства и последний соблазн? Ясна ли грубая бытовая развязка?» Иными словами, поэма представляет собой ярчайший образец вербальной магии, пример осознанной суггестии: Цветаевой «вещь ясна», тогда как обычная знахарка шепчет свои заговоры, не задумываясь над их смыслом. Потрясает поэма также чувством «интереса к русской старине и единства с жизнью своих предков». Сам образ колдуньи неслучаен и весьма характерен для русского национального восприятия природы и женского естества. Недаром мы встречаемся с поэмой и ее героиней в романе И. Ефремова «Лезвие бритвы» (переполненного, кстати, рассуждениями о психиатрии, суггестии, ведовстве): «Прежде Гирин не любил и не понимал поэзии Цветаевой, но Сима открыла в ее великолепных стихах глубокую реку русских чувств, накрепко связанных с нашей историей и землей. Под аккомпанемент первобытных звуков льющейся воды, шелестящей травы и отдаленного плеска моря, в прозрачных, как газовая ткань, весенних сумерках, она читала ему „Переулочки“ — поэму о колдовской девке Маринке, живущей в переулочках древнего Киева. Молодец Добрыня едет в Киев, и мать не велит ему видеться с этой девушкой, потому что она превращает добрых молодцов в туров. Конечно, Добрыня первым делом разыскивает Маринку. Той нравится Добрыня, и начинается заклятие. Сперва чарами природы, потом телом прекрасным, потом ликом девичьим... Мороком стелется, вьется вокруг него колдовство, и вот только две души — ее и его — остаются наедине, заглядывая в неизмеримую глубину себя. Сгущается морок, и, наконец, удар копытом, скок, и от ворот по тонкому свежему снегу турий след». Кстати, «переулок», по определению В. Даля, «поперечная улка; короткая улица, для связи улиц продольных». «Переулочки» Цветаевой — тексты заговорные, используемые для соединения двух людей; для обострения всех чувств и доведения их до абсурда. Героиня — ведьма; ведает, что творит. По определению того же И. Ефремова, «Слово „ведьма“ происходит от „ведать“ — знать и обозначало женщину, знающую больше других, да еще вооруженную чисто женской интуицией. Ведовство — понимание скрытых чувств и мотивов поступков у людей, качество, вызванное тесной и многогранной связью с природой. Это вовсе не злое и безумное начало в женщине, а проницательность. Наши предки изменили это понимание благодаря влиянию Запада в средневековье и христианской религии, взявшей у еврейской дикое, я сказал бы — безумное, расщепление мира на небо и ад и поместившей женщину на адской стороне. А я всегда готов, образно говоря, поднять бокал за ведьм, проницательных, веселых, сильных духом женщин, равноценных мужчинам!». Произнесший эти слова герой романа Иван Гирин — врач, физиолог, психиатр — чрезвычайно много рассуждает о суггестии, гипнозе, тайнах подсознания. И это не случайно Одна из основных движущих сил развития человеческого интеллекта — желание воздействовать на себе подобных — находит реальное воплощение в понятии «суггестия» (внушение). Суггестия является компонентом обычного человеческого общения, но может выступать и как специально организованный вид коммуникации, формируемый при помощи вербальных (словесная продукция) и невербальных (мимика, жесты, действия собеседника, окружающая обстановка и т. д.) средств. Феномен суггестии традиционно относили к областям магии, религии, медицины и психологии, и именно представителям данных направлений принадлежит львиная доля работ, посвященных указанной проблеме. Каковы же общепринятые традиционные представления о суггестии? Магия (религия) издавна прибегала к внушению как к способу воздействия людей друг на друга. Сначала такое воздействие применялось интуитивно и только с развитием науки колдуны также попытались дать явлению суггестии свое объяснение. В V в. до н. э. Геродот сообщил, что в наиболее развитой ассиро-вавилонской медицине заклинания, магические формулы или сожжение фигурок демонов сопутствовали приему снадобий — этим изгонялись злые духи, которые были главными причинами болезни. В папирусе Эберса, составленном за 2000 лет до н. э. даны рецепты 900 снадобий от различных недугов, употребление которых предлагалось обязательно сочетать с заклинаниями, в которых слова следовало произносить четко и повторять их по нескольку раз. Заклинаниями и возложением рук на голову больного врачевали халдейские и египетские жрецы, персидские маги, индусские брамины и йоги. Римские писатели Марциал, Агриппа, Апулей и Плавт поведали об усыплении прикосновением рукою, сопровождаемом заклинаниями. Исцеляя некоторых больных внушением, служители религиозных культов демонстрировали свое могущество, чудодейственную силу. Исцеление проводилось жрецами в храмах, возведенных в честь бога медицины Эскулапа в Древнем Риме, Асклепия в античной Греции, Сераписа в эллиническом Египте. Больше других прославилось святилище Асклепия в Эпидавре, названное асклейпионом. Лечение в асклейпионе начиналось с разработанной системы внушения. Совершались пышные ритуалы, включавшие в себя жертвоприношения, курение благовоний, принятие ванн, читались молитвы. Больных укладывали на шкуру дикого кабана, принесенного в жертву, и усыпляли. Некоторым из них снилось, будто сам бог указывает им средства излечения — это и было предписанием для дальнейшего лечения. Можно выделить несколько положений, принимаемых служителями магических и религиозных культов за аксиомы: 1. Человек состоит из вечной души и бренного тела. Апулей утверждал, что «прикосновением, заклинаниями и запахами можно так усыпить человека, что он освобождается от своей грубой телесной оболочки и возвращается к чистой, божественной бессмертной природе». 2. Всякое добро, помощь и содействие, а также всякое зло, вред и несчастье происходят от стихийных духов {богов). 3. Идея обладает динамическим свойством: «делая внушение на срок, мы закладываем в импульсивный центр субъекта зерно некое го динамического существа, точный момент появления которого на свет мы определяем текстом внушения. Это динамическое существо будет в свое время действовать изнутри наружу; следовательно, оно не чувство, ибо существенной особенностью чувства является действие снаружи вовнутрь. Это идея, которую воля гипнотизера озаряет специальным динамизмом и в виде зародыша вкладывает в импульсивное существо субъекта, чтобы она в определенный день активно проявила заключенную в ней энергию, приведя в действие соответствующий центр. Это род одержимости». Эфемерных динамических существ, создаваемых человеческой волей (субъектов суггестии) оккультисты и маги называют элементарными существами или элементалами (а также лярвами, астроменталами). Люди, владеющие техникой внушения, обладают якобы особой, только им присущей «жизненной силой», «животным магнетизмом», который они способны передавать другим людям. Известный врач и химик XVI столетия Теофраст Бомбаст Парацельс (1490-1541) считал изначальным источником магнетизма планеты и звезды. Целебная сила магнитов в том, что они вытягивают болезнь. Вся магическая сила в огромной степени зависит от веры. П. Хасон в «Учебнике белой магии» утверждает: «вера — это то что отбрасывает все остальное и расчищает поле для мгновенного действия. Это одна из тех ценных опор, которая поддерживает Вас временно, в течение всего Вашего магического действия и позволяет Вам поверить в неизбежность успеха, который является его слугой Это средство достижения особого состояния внушения себе временной мании величия, без которой невозможно колдовство». Ту же мысль находим у Парацельса: «Пусть предмет нашей веры будет действительный или ложный — последствия для вас будут одни и те же. Таким образом, если вера моя в статую святого Петра будет такая же, как в самого святого Петра, я достигну тех же эффектов, как их достиг бы верой в самого святого Петра. Все равно истинная это вера или ложная, она будет чудеса творить всегда». Таким образом, многие идеи, которые будут впоследствии разработаны учеными, были высказаны еще колдунами и религиозными деятелями, хотя церковь препятствовала развитию научных представлений о внушении, так как это мешало сакрализации религиозных таинств. В первой половине XVII столетия умами передовых мыслителей овладело учение выдающегося французского философа Рене Декарта, которому принадлежит открытие рефлекса. Он относил рефлекторные механизмы только к низшим формам нервной деятельности, а произвольное поведение связывал с наличием в теле души, которая побуждает к различным страстям. Но наряду с этим у Декарта есть и следующее утверждение: если в пище, которую едят с аппетитом, неожиданно встречается какой-нибудь очень грязный предмет, то впечатление, вызванное этим случаем, может так изменить состояние мозга, что после него нельзя будет смотреть на эту пищу иначе как с отвращением. Гениальный мыслитель предугадал здесь элементы внушения, хотя официальная медицина того времени еще не приемлет такого понятия. Суггестия в медицинеВо второй половине XVIII в. венский врач Франс Антон Месмер (1734-1815) создал учение о «животном магнетизме». По его воззрениям, человек обладает свойствами магнита (причем отдельные люди одарены магнетической силой в особой степени) и гипнотические феномены вызываются магнетическим «флюидом», способным передаваться от субъекта к субъекту, оказывая целебное воздействие. «В клинике Месмера „магнетизирование“ первоначально осуществлялось при помощи пассов, вызывающих конвульсивные кризы, а в последующем в связи с увеличением количества пациентов проводились коллективные сеансы. Для усиления эффекта ожидания в помещении создавалась определенная атмосфера: полумрак, выразительно задрапированные окна и стены, курился ладан, звучала музыка. Неожиданно появлялся Месмер, облаченный в лиловые одежды, и величественно прикасался руками к ожидающим магнетического воздействия больным, которые для проведения магнетических „флюидов“ держались за металлические стержни, исходящие из дубовой бочки, наполненной магнитами. У пациентов развивался истерический припадок с судорогами, после чего наступал сон с последующим выздоровлением». Месмер полностью отрицал роль психологического фактора и речи, хотя в заключении комиссии Французской академии наук отмечается: «Воображение без магнетизма вызывает конвульсии... Магнетизм без воображения не вызывает ничего». Ученик Месмера — магнетизер-любитель маркиз Шастенэ де Пюисегур открыл сомнамбулическую стадию гипноза, описал явление постгипнотической амнезии и сообщил о возможности словесной связи с загипнотизированным человеком (раппорта). Пюисегур был пионером в проведении прямого словесного внушения, не опосредованного какими-либо ритуалами. В 1819 г. португальский аббат Фариа, который несколько лет провел в Индии и там изучил методы индийских магов, сделал важное открытие, что достаточно нескольких слов, чтобы вызвать у восприимчивых людей состояние сомнамбулизма. Усыпление проводилось повелительным приказом: «Спите!». Сон был фоном других внушений. В опубликованных трудах Фариа доказал непричастность сторонних сил к внушению; причину явления он видел в самом субъекте, подвергаемом внушению,— в его воображении. Английский хирург Дж. Брэд (1795-1860) ввел технику гипнотизирования с помощью зрительной фиксации и словесного внушения. В 1843 г. он выпускает книгу «Неврология, или Трактат о нервном сне, рассматриваемом в его отношениях к животному магнетизму, со включением многочисленных успехов применения его к лечению болезней». Внушенный сон Брэд назвал гипнозом (от греч. hypnos — сон). Термин быстро привился, вытеснив популярное слово «магнетизм». «Но удивительное дело,— отмечает Л. М. Линецкий,— сам по себе термин сыграл и отрицательную роль. Сложилось так, что гипнозом начали называть не только внушенный сон, но и другие внушения, которые ничего общего со сном не имеют. Гипноз слился с внушением вообще, хотя является только одним из множества его проявлений. Известно, что внушать можно и в бодрствовании, между тем внушение больше исследуется в рамках гипноза. Если до Брэда научная история внушения была связана с врачеванием, то со времен Брэда она связалась еще с гипнозом. Это тем более удивительно, что сам Брэд проявлял интерес к внушению в бодрствовании». Во второй половине XIX столетия центром изучения внушения и гипноза становится Франция. В небольшом университетском городке Нанси, близ Парижа, сельский врач Амвросий Август Льебо (1823-1904) применял прямое словесное внушение для лечения больных, а профессор из университета Нанси Ипполит Бернгейм (1840-1919) был твердо убежден в том, что все проявления гипноза сводятся только к внушению. Он признается главой нансийской школы, а «столько раз проклятая наука о внушении» (по выражению Льебо) усилиями Бернгейма получает права гражданства. Девизом нансийцев стала фраза: «Гипноза нет, есть только внушение». Одновременно в Париже в стенах Сальпетриерской психиатрической больницы формируется сальпетриерская школа. Ее возглавил метр неврологии того времени, член Французской Академии наук Жан Мартен Шарко (1825-1893). Шарко выдвигал на передний план физические воздействия, а внушению отводил второстепенную роль, считал применение гипноза в клинической практике вредным и делал поспешный вывод о том, что люди, расположенные к гипнозу, страдают болезненными отклонениями нервной системы. В конце XIX в. изучение гипноза и внушения в медицинских кругах приобретает все более научный характер, хотя филологи по-прежнему отстранены от решения задач такого плана. Тем не менее, представителям медицины с неизбежностью приходится признавать очевидные факты взаимозависимости языка и суггестии. Неонансийская школа. Глава — аптекарь Эмиль Куэ (1857-1926) — решающее значение во внушении придавал воображению: «Нет внушения, есть только самовнушение». В начале 900-х годов в Нанси открылась клиника, в которой больные обучались приемам целебного самовнушения. Куэ называл своих больных учениками. Прежде всего «ученики» должны были поверить в возможность самовнушения. Для этого предлагалось внушить себе: «Я падаю вперед» или «Я падаю назад»; скрестив пальцы рук, внушать себе, что невозможно их разъединить и пр. Убедившись в том, что он овладел приемами самовоздействия, «ученик» с закрытыми глазами шепотом внушал себе избавление от беспокоящих явлений. Это внушение он повторял по нескольку раз в день — перед сном и тотчас после пробуждения, а также в других ситуациях. И хотя В. М. Бехтерев на четверть века опередил Куэ в лечении самовнушением (аутотренингом), он с большим интересом отнесся к самому Куэ и его методу и писал в статье «Самовнушение и куэизм как исцеляющий фактор»: «Нет надобности говорить, что популярности своей Куэ обязан и своей обаятельной личности, и своему бескорыстию, и всей той атмосфере, которая постепенно создавалась вокруг его имени, благодаря успешным результатам его лечения, состоящего столько же в самовнушении, сколько в массовом внушении во время самой его беседы, и во время его демонстраций, и во время последнего общего терапевтического внушения... Успех Куэ есть успех убежденного проповедника, и надо быть Куэ, чтобы достигать подобных же результатов». В России изучение внушения и гипноза имеет свою историю. Так, А. А. Токарский (1859-1901) в работе «Гипнотизм и внушение» (1888 год) писал: «Я не хочу этим приравнивать явления внушения к простым рефлекторным актам низших мозговых центров. Принимая ясно выраженный характер рефлексов, явления эти остаются, тем не менее, психологическими, так как в цепи развивающихся явлений находится также идея. Это условие резко отличает простой рефлекс от акта внушенного, хотя последний по неизбежности своего развития и не отличается от первого». По мнению А. А. Токарского, в гипнозе происходит расстройство ассоциации. Это лишает человека возможности правильного, адекватного восприятия действительности: оно становится ложным, галлюцинаторным, в результате чего кора головного мозга перестает сдерживать низшие (подкорковые) мозговые образования. Профессор Харьковского университета В. Я. Данилевский (1852-1939) связывает гипноз не только с рефлекторными механизмами, но и с эмоциональным состоянием: гипнотизация человека, по его мнению, сводится к принуждению, сосредоточению внимания и угнетению воли. В. М. Бехтерев по праву считается основоположником отечественной психотерапии. С 1890 года он разрабатывает систему самовнушения, которую особенно охотно применяет в лечении больных алкоголизмом. Больной должен был многократно перед сном и после пробуждения произносить вполголоса: «Я дал себе зарок не только не пить, но и не думать о вине; теперь я совершенно освободился от пагубного соблазна и о нем вовсе не думаю». В. М. Бехтерев заложил Фундамент исследования социально-психологического значения внушения. В 1897 г. он выступил в Военно-медицинской академии с речью «Внушение и его роль в общественной жизни», где впервые проанализировал роль внушения в межличностных отношениях и в происхождении психических эпидемий, обосновал принципы и преимущества коллективной гипнопсихотерапии и показал, что внушаемость личности в коллективе повышается. Школа И. П. Павлова рассматривала гипноз как частичный сон, частичное торможение, переходное состояние между бодрствованием и сном, а также выделяла уравнительную, парадоксальную и ультрапарадоксальную фазы. В частности, в парадоксальной фазе, названной фазой внушения, на сильные раздражители реального мира отмечается либо слабая реакция, либо отсутствие ее, а слабые словесные воздействия вызывают сильную реакцию, что обеспечивает максимальную эффективность словесного внушения. Слово как универсальный специфический условный раздражитель (сигнал сигналов) может вызывать в соответствии с его сложным смысловым значением самые разнообразные реакции, связанные с воздействием любых физических стимулов, сигнализируя и заменяя их. Параллельно 3. Фрейд изложил свою интерпретацию механизма внушения в работе «Массовая психология и анализ человеческого „Я“», где утверждал, что для гипнотической связи, представляющей собой подобие влюбленной самоотдачи, характерны уступчивость, снятие критики по отношению к гипнотизеру, отсутствие самостоятельности и инициативы, концентрация на личности гипнотизера, занимающего место идеала «Я» (всемогущего отца, вождя массы). Особенности массовой психологии 3. Фрейд объяснял механизмом филогенетической памяти, хотя отмечал, что даже при полной суггестивной податливости сохраняется «моральная совесть» загипнотизированного. Резюмируя результаты изучения суггестии в медицинском и психологическом аспектах, выделим следующие важные для нашего исследования положения: - Внушение соотносилось с воображением и эмоциями. - Был обнаружен раппорт — возможность словесной связи с загипнотизированным человеком. - Выявили наличие прямого и косвенного словесного внушения. - Внушение рассматривалось в узких рамках гипноза, а в гипнозе видели много общего с обычным сном. - Открыты приемы целебного самовнушения (аутотренинга) - Отмечено влияние личности гипнотизера на процесс внушения. - Суггестивное воздействие связывали с расстройством ассоциации (диссоциацией) психики. - Внушение начали связывать с межличностными отношениями, происхождением психических эпидемий. - Установили, что внушаемость личности в коллективе повышается, хотя «моральная совесть» загипнотизированного сохраняется даже при полной суггестивной податливости. - Слово признано универсальным специфическим условным раздражителем — сигналом сигналов, способным заменять воздействие любых физических стимулов. При этом, хотя «в построении теоретической концепции гипноза происходит освобождение от односторонности и все более начинает проявляться тенденция к междисциплинарному подходу (сближение и объединение физиологии, психоанализа, экспериментальной психологии», лингвистика по-прежнему остается в стороне, не считая суггестию объектом, достойным внимания в связи с отсутствием специальных методов исследования латентных вербальных механизмов. На эту особенность обратил внимание Б. Ф. Поршнев, создавая теорию палеопсихологии, осмысливая начало человеческой истории: «О внушении написано много исследований, но, к сожалению, в подавляющем большинстве медицинских, что крайне сужает угол зрения. Общая теория речи, психолингвистика, психология, физиология речи не уделяют суггестии сколько-нибудь существенного внимания, хотя, можно полагать, это как раз и есть центральная тема всей науки о речи, речевой деятельности, языке» Обратимся к традиционным определениям внушения. В. М. Бехтерев определяет суггестию как «оживление у испытуемого или прививание ему путем слова соответствующего внешнего или внутреннего раздражения». К. М. Варшавский утверждает: «Не следует смешивать убеждение с внушением. Убеждение — это воздействие одного человека на другого доводами разума; это сознательное восприятие слова. Внушение — это также словесное воздействие, но воспринимаемое без критики». «Внушение есть универсальное явление общественной жизни, неотъемлемое свойство любого нормального человеческого общения». А. М. Свядощ приводит следующее определение: «Внушение (suggestio) — подача информации, воспринимаемой без критической оценки и оказывающей влияние на течение нервно-психических процессов. Путем внушения могут вызываться ощущения, представления, эмоциональные состояния и волевые побуждения, а также оказываться воздействие на вегетативные функции без активного участия личности, без логической переработки воспринимаемого». Иными словами, суггестия традиционно определяется как воздействие на человека (прежде всего, словесное), воспринимаемое им без критической оценки — латентное (скрытое) вербальное воздействие. Наиболее часто суггестия целенаправленно и сознательно используется в медицине и изучается преимущественно в связи с вопросами психотерапии. Часть исследователей называют психотерапию речевой терапией. Ряд других авторов не согласны с таким определением, «так как информация может передаваться и безречевым путем, поскольку ее несут не только речь врача, но и сопутствующие ей мимика, жесты, интонация и весь внешний облик говорящего». Особенно настаивают на вторичности слова, как это ни странно звучит, представители направления, именуемого «нейро-лингвистическим программированием» (НЛП), утверждающие, что воздействие происходит преимущественно на невербальном, кинестетическом уровне. Диалектически «примиряют» обе концепции мнение психотерапевта А. Б. Добровича, предлагающего рассматривать речь и все сопутствующие ей компоненты как «пучок языков» (1981). Это вполне соответствует исследованиям современных психолингвистов, посвященным изучению невербальных компонентов коммуникации. Вполне естественно поэтому, что с какой бы точки зрения ни изучалось явление суггестии, специалисты различных профилей приходили к выводу о необходимости комплексного подхода для ее описания. Об отношении к языку и суггестии магов и представителей медицины мы уже писали выше. Добавим только, что принимающим аппаратом признаны лобные доли коры головного мозга: «Очевидно, можно даже сказать, что лобные доли есть орган внушаемости». При этом упрощенное отношение к проблемам вербальной суггестии не всегда позволяет медикам объяснить полученные в ходе экспериментов результаты. Конечно, в случае задач низшего порядка, связанных с простейшими физиологическими реакциями организма, все достаточно просто: выработав сосудистый рефлекс на тепло или холод (фиксируемый специальным прибором — плетизмографом) — можно наблюдать аналогичные реакции и на соответствующие вербальные команды. Однако по мере усложнения коммуникативных задач появляются противоречия, снять которые можно только на уровне согласования параметров текстов в соответствии с определенными коммуникативными целями. Так, Н. И. Чуприкова отмечает: «Известно, например, что в ряде случаев подчинить поведение высшим социальным требованиям представляет трудную задачу, с которой люди не всегда в равной степени успешно справляются». Прямая словесная инструкция не всегда обеспечивает точную и однозначную реакцию личности и нуждается в дополнительном (часто также вербальном) подкреплении. В. С. Мерлин показал, что словесная инструкция затормозить проявление ранее выработанной оборонительной реакции на условный раздражитель действует у одних испытуемых с хода, у других с заметными затруднениями. В последнем случае на помощь привлекались поощряющие мотивы: например, экспериментатор говорит, что опыт проводится не просто в научных целях, но имеет задачей выяснить профпригодность испытуемых, — и теперь они успешно справляются с задачей затормозить движение. Значит, эта мотивировка устранила, сняла некое противодействие инструкции, которое имело место. У некоторых испытуемых В. С. Мерлин обнаружил, наоборот, ярко выраженную преувеличенную («агрессивную») реакцию после получения словесной инструкции на торможение: вместо отдергивания пальца при появлении условного сигнала (которое инструкция требовала затормозить) они с силой жмут рукой в противоположном направлении. Значит, к инструкции приплюсовался некоторый иной стимул: либо гетерогенный, либо просто негативный, антагонистический. Суггестия в лингвистикеПостижение сущности человека, его сознания, души, смысла существования также производилось в соотношении с проблемами воздействия языка: «Каждая серьезная философская концепция сопряжена со своим особым, только ей присущим, языком. Отчетливо разными вырисовываются перед нами языки философий Канта, Гегеля, Ницше, Гуссерля, Витгенштейна, Хайдеггера. Серьезные философски ориентированные разделы науки — квантовая механика, теория относительности — это также построения, обладающие своими собственными языками. ...Разные религиозные системы оказываются порожденными разными языками. Разные языки обладают разной выразительной силой. Но измерять выразительную силу языка мы не умеем. И важнее, может быть, даже другое — одни языки навсегда остаются эзотерическими (эзотеризм здесь гарантируется трудностью восприятия), другие становятся mass media». Философ, по мнению В. В. Налимова, это тот, кто владеет всей полифонией философских языков. А поскольку философы пытались объяснить мир, им приходилось, наряду с лингвистами, постигать и тайны языка. В статье Д. Мосса и Э. Кинга, посвященной экзистенциально-феноменологическому подходу к пониманию сознания, утверждается: «Человек лингвизирует свой мир, и лингвизация в этом смысле есть творческий процесс. Человек живет в мире, пересотворяемом непрерывно с помощью его собственного языка. Более всего центральные места и моменты в его мире оказываются обозначенными собственными именами. Наша открытость миру не просто структурируется языком, но также трансформируется с его помощью». Л. Витгенштейн в своем логико-философском трактате утверждает: «5.6. Границы моего языка означают границы моего мира. ...4002. Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея представления о том, что означает каждое слово — так же, как люди говорят, не зная, как образовались отдельные звуки». Х. Г. Гадамер — современный немецкий герменевтик считает, что «принцип герменевтики просто означает, что мы должны стараться понять все, что можно понять. Именно это я имел в виду, когда говорил: „Бытие, которое можно понять, — это язык“». И далее: «Сегодня наука и присущий человеку опыт о мире встречается при решении философской проблемы языка». Вплотную подошли к осознанию проблемы языковой суггестии также нейрофизиологи и психобиологи. Так, биоантрополог М. Коннер в конце книги «Спутанное крыло. Биологические ограничения человеческого духа» пишет: «мы хотим снова ощутить человеческую душу как душу, а не как биоэлектрический гул; человеческую волю как волю, а не как громадную волну гормонов; человеческое сердце не как волокнистый влажный насос, а как метафорический орган понимания. Мы не нуждаемся в том, чтобы верить в них как в метафизические сущности — они реальны, как тело и кровь, из которых они сделаны. Мы должны верить в них как в сущности; не как в анализируемые фрагменты, а как целое, сделавшееся реальным в нашем созерцании их, с помощью слов, которые мы употребляем, говоря о них, с помощью способа, которым мы обращаем их в речь... Для нас, со всем нашим спотыканием и среди нашего ужасного смущения, надо попробовать освободить спутанное крыло». Следует упомянуть также статью П. Д. Мак-Лина «Воля к власти, уходящая корнями в мозг», в которой говорится о влиянии биологической предыстории человека на его устремленность к власти. Предвосхитил труды этих ученых Б. Ф. Поршнев, попытавшийся соединить новейшие открытия в области археологии, антропологии, лингвистики для объяснения глубоких эволюционных слоев в психике, мышлении, языке современного человека. Раскрывая действие механизма суггестии, Б. Ф. Поршнев по сути присоединяется к концепции социального происхождения высших психологических функций человека, развитой известным советским психологом Л. С. Выготским применительно к психическому развитию ребенка. Согласно Выготскому, все высшие психические функции суть интериоризованные социальные отношения: человек и наедине с собой сохраняет функции общения. По мнению Б. Ф. Поршнева, зарождение второй сигнальной системы и появление языка напрямую связано с явлением суггестии: «Вначале, в истоке, вторая сигнальная система находилась к первой сигнальной системе в полном функциональном биологическом антагонизме. Перед нашим умственным взором отнюдь не „добрые Дикари“, которые добровольно подавляют в себе вожделения и потребности для блага другого: они обращаются друг к другу средствами инфлюации, к каковым принадлежит и суггестия, для того чтобы подавлять у другого биологически полезную тому информацию, идущую по первой сигнальной системе, и заменить ее побуждениями, полезными себе». «Вторая сигнальная система родилась как система принуждения между индивидуумами: чего не делать, что делать». Б. Ф. Поршнев утверждает, что человек в процессе суггестии интериоризирует свои реальные отношения с другими индивидами, выступая как бы другим для себя самого, контролирующим, регулирующим и изменяющим благодаря этому собственную деятельность. Этот процесс уже не может осуществляться в действиях с предметами, он протекает как речевое действие во внутреннем плане. Механизм «обращения к себе» оказывается элементарной ячейкой речи-мышления. Дипластия — элементарное противоречие мышления — трактуется Б. Ф. Поршневым как выражение исходных для человека социальных отношений «мы — они». Развитие феномена суггестии, по Б. Ф. Поршневу, в целом укладывается между двумя рубежами: «возникает суггестия на некотором предельно высоком уровне интердикции; завершается ее развитие на уровне возникновения контрсуггестии». Здесь мы сталкиваемся, как минимум, с двумя проблемами, над которыми долгое время размышляют лучшие лингвистические умы. Это проблема происхождения языка и проблема функций языка. Проблема возникновения языка занимала и философов и лингвистов, и решение ее, еще со времен античности, сводилось к двум основным вариантам: появился ли язык «по установлению» (thesei) или «по природе» (physei) вещей? Античная философия высказала почти все возможные точки зрения, которые впоследствии главным образом углублялись и комбинировались. Если философ считал, что язык создан «по установлению», то он должен, естественно, отвечать на вопрос, кто его «установил», и здесь возможны следующие ответы: бог (боги), выдающийся человек или коллектив людей (общество). Возможны комбинации этих ответов: человек, наделенный божественной силой, человек совместно с коллективом людей. Если же философ полагал, что язык создавался главным образом «по природе», то его гипотеза утверждала или то, что словам соответствуют свойства вещей, или то, что им соответствуют свойства человека (его поведение), или то и другое вместе. Б. Ф. Поршнев выдвигает суггестивную теорию происхождения языка, подтверждая свою гипотезу данными нейрофизиологов о том, что из всех зон коры головного мозга человека, причастных к речевой функции, т. е. ко второй сигнальной системе, эволюционно древнее прочих, первичнее прочих — лобная доля, в частности префронтальный отдел. Этот вывод отвечает тезису, что «у истоков второй сигнальной системы лежит не обмен информацией, т. е. не сообщение чего-либо от одного к другому, а особый род влияния одного индивида на действия другого — особое общение еще до прибавки к нему функции сообщения». Проанализировав практически все основные гипотезы происхождения языка, Б. В. Якушин приходит к выводу о неуклонном росте мощности информационных потоков, обусловленных тяжестью борьбы за существование через стрессируемость организма, которая «расшатывала генетический фонд первобытных людей, делая его многообразным. Соответственно разнообразными становились и их индивидуальные способности, расширялся диапазон выраженности инстинктов и потребностей и, прежде всего, инстинктов роста, познания и свободы. Все это приводило к усложнению иерархии сообщества, к частному перемещению индивидов по уровням и к трудностям управления коллективом. Возрастает роль доминирующих индивидов и лидеров. Для контроля над сообществом и управления им необходимо оптимизировать сбор и обработку информации о его состоянии. Усложняющиеся формы труда и борьбы, взаимодействующие с развивающимся мышлением, требовали более тонкого и информированного управления». В данном случае напрямую связываются язык, информация и управление, что соотносится с гипотезой Б. Ф. Поршнева об особой роли суггестии в процессе становления и развития языка, а также с данными психолингвистов, посвященных онтогенезу речевой деятельности. По определению «Лингвистического энциклопедического словаря», функции языка представляют собой проявление его сущности, его назначения и действия в обществе, его природы, т. е. они являются его характеристиками, без которых язык не может быть самим собой. Двумя главнейшими, базовыми функциями языка являются: коммуникативная — быть «важнейшим средством человеческого общения», и когнитивная (познавательная, гносеологическая, иногда называемая экспрессивной, т. е. выражения деятельности сознания) — быть «непосредственной действительностью мысли». Волюнтативная функция (функция воздействия) считается частной, производной коммуникативной функции. По-видимому, это связано с попыткой найти механизмы развития языка внутри самого языка, рассматривать язык как саморазвивающуюся систему. Действительно, можно предположить, что в языке действуют две тенденции: тенденция к экономии произносительных усилий и тенденция к наибольшей выразительности, взаимодействие которых и способствует развитию языка на самых различных уровнях. Но тогда для теоретического удобства подобной трактовки следует представить себе и услужливых дикарей, отдающих соперникам последнюю кость или женщину. В противном же случае следует признать наличие суггестивной (волюнтативной) функции языка как одной из ведущих (базовых), потому что даже сбор информации происходил с целью оптимального управления человеком, сообществом людей или обстоятельствами. Обратившись же к современным психологическим теориям, описывающим отнюдь не первобытных людей с потребностями первой сигнальной системы, мы заметим, что потребности манипулировать себе подобными не только не исчезли, но и возросли неимоверно. По-видимому, именно объективности и непредвзятости не хватало лингвистическим исследованиям для того, чтобы изучить суггестивные аспекты языка. Любопытен такой пример. В статье «Объективная и нормативная точка зрения на язык» А. М. Пешковский пишет: «Объективной точкой зрения на предмет следует считать такую точку зрения, при которой эмоциональное и волевое отношение к предмету совершенно отсутствует, а присутствует только одно отношение — познавательное. ...Такова точка зрения наук математических и естественных. Если подходить к науке о языке с этим различением субъективного и объективного, то языковедение окажется наукой не гуманитарной, а естественной». Однако, когда речь заходит о реализации этого объективного подхода при анализе явлений языка, то часть явлений действительно оценивается объективно: «Прежде всего, по отношению ко всему народному языку... у лингвиста, конечно, не может быть той наивной точки зрения, по которой все особенности народной речи объясняются порчей литературного языка», а другая часть явлений того же, по сути, происхождения, исключается (по-видимому, в силу отсутствия необходимых объяснений) из этого ряда: «В естественном состоянии все, кроме сумасшедших и сумасшествующих (колдуны, шаманы, заклинатели), говорят нормально, т. е. понятно». И так происходило повсеместно: непонятные явления отрицались и относились к области суеверий или мистики, хотя, по мнению естествоиспытателя А. М. Бутлерова «несомненно, что в отрицание, как и в допущение, легко вкрадывается предвзятость и можно сказать суеверие. ...Подозревать и упрекать взаимно друг друга могут здесь обе стороны, и уж конечно, при господствующем направлении философского познания, легче впасть в суеверие отрицающее, чем наоборот». Подлинную объективность и непредвзятость в оценке непонятных явлений можно найти в работах В. Н. Волошинова, П. А. Флоренского: «Слово магично и слово мистично. Рассмотреть, в чем магичность слова, это значит понять, как именно и почему словом можем мы воздействовать на мир». И далее: «И речь, как ни считают ее бессильной, действует в мире, творя себе подобное. И как зачатие может не требовать лично-сознательного участия, так и оплодотворение словом не предполагает непременно ясности сознания, раз только слово уже родилось в общественную среду от слово-творца или, точнее, слово-культиватора, бывшего ранее. Вот почему магически мощное слово не требует, по крайней мере, на низших ступенях магии, непременно индивидуально-личного напряжения воли, или даже ясного сознания его смысла. Оно само концентрирует энергию духа». Те же факты отмечают и практики-гипнотизеры: «Слово гипнотизера имеет власть над психикой человека и над его телом». Но они же отмечают, что гипноз — еще малоизученное явление. Его не так-то просто объяснить только торможением участков коры больших полушарий: «Вот льется кровь из глубокой раны, явно перерезана какая-нибудь крупная артерия. Над раной склоняется знахарь. Шепчет какие-то слова. И — кровь останавливается! И не играет в этом случае роли, кто ранен — верящий ли в заклинания человек или не верящий никаким знахарям. Кровь останавливается... Но ничего чудесного здесь нет. Это тоже, вероятно, одна из форм гипноза. Я говорю с такой убежденностью и знанием дела, потому, что и сам умею не хуже знаменитых знахарей „заговаривать зубы“ и изгонять головную боль. Делал я это тысячи раз. Конечно, я обхожусь без заклинаний и нашептываний. Они не нужны. Я просто смотрю на моего пациента и представляю при этом свою, не беспокоящую меня челюсть, свой здоровый зуб. И разговариваю при этом с человеком о его болезни. Зуб перестает болеть. Занимает это столько же времени, сколько вы затратили, чтобы прочитать эти строки». Здесь В. Мессинг явно противоречит себе: «Обхожусь без заклинаний», но «разговариваю». По сути, он приводит иллюстрацию использования именно вербальных средств внушения. Хотя сама по себе мысль о том, что «дело не в словах» достаточно распространена. Любит это повторять А. М. Кашпировский в своих лечебных сеансах, а Август Форель еще в 1928 году писал: «Советую образованным скептикам открыто заявить: „Я обращаюсь не к вашему сознательному Я, не к вашему рассуждающему разуму, а к вашему подсознанию, которое одно является виновником ваших страданий. Поэтому не обращайте внимания на то, что я говорю, и не вдумывайтесь в это“». Веками люди пытались найти идеальные слова, породить лечебные тексты — заговоры, молитвы, мантры, формулы гипноза и аутотренинга. Самые удачные из них запоминали, переписывали, передавали из поколения в поколение. Человек, профессионально владеющий языком, считался чародеем. Вербальная магия — наука и искусство — жива и поныне. Колдуны, экстрасенсы, психотерапевты, модные «нэлперы» с разной степенью успешности представляют ее. И все-таки ближе всех к разгадке тайны суггестии стоят лингвисты, филологи — люди, изучающие Тайны языка. На почве эзотерических лингвистических знаний жрецов «родилась и древнейшая философия языка: ведийское учение о слове, учение о Логосе древнейших греческих мыслителей и библейская философия слова... Согласно ведийской религии священное слово — в том употреблении, какое дает ей „знающий“, посвященный, жрец — становится господином всего бытия, и богов, и людей. Жрец — „знающий“ определяется здесь как повелевающий словом,— в этом все его могущество. Учение об этом содержится уже в Риг-Веде», — слова эти написаны М. М. Бахтиным в начале XX века, когда язык вновь оказался для философов реальностью, скрывающей тайну бытия (по мнению В. В. Налимова, в XVII-XIX вв. такой реальностью считалось мышление). И если еще в конце XIX в. (в 1871 г.) И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: «Языковедение вообще мало применимо к жизни: с этой точки зрения в сравнении, например, с физикою, химией, механикой и т. п. оно является полнейшим ничтожеством. Вследствие того оно принадлежит наукам, пользующимся весьма малою популярностью, так что можно встретить людей даже очень образованных, но не понимающих или даже вполне отрицающих потребность языковедения». И только «маленькая горсточка чудаков в квадрате признает язык в качестве предмета, достойного исследования, а языкознание, таким образом, как науку, равноправную с другими науками». Как выяснилось позже, именно развитие точных и естественных наук приведет к повышенному интересу к философии языка и языковым проблемам. «Если мы теперь хотим говорить о смыслах нашего Мира в целом, то его природе надо будет приписать текстово-языковую структуру. Здесь мы перекликаемся с герменевтической философией Хайдеггера: его теория познания исходит из представления о Мире как о своеобразном онтологизированном тексте. Соответственно, сознание человека, раскрывающее смыслы через тексты, выступает перед нами как языковое начало — нам становится понятной метафора Хайдеггера-Рикера: Человек есть язык», — пишет доктор технических наук, физик В. В. Налимов. По большому счету, для языкознания эта идея привычна, потому что еще великий Гумбольдт писал: «Язык — это объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных звуках, в этом облике и через взаимосвязь своих звуков понятная всем говорящим и возбуждающая в них примерно одинаковую энергию. Человек весь не укладывается в границы своего языка; он больше того, что можно выразить в словах; но ему приходится заключать в слове свой неуловимый дух, чтобы скрепить его чем-то, и использовать слова как опору для достижения того, что выходит за их рамки. Разные языки — это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее». Поразившая впоследствии умы гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, восходящая к идеям В. Гумбольдта, состояла в том, что язык навязывает человеку нормы познания, мышления и социального поведения: мы можем познать, понять и совершить только то, что заложено в нашем языке. В. А. Звегинцев по-своему преобразовал эту идею: «Лингвисты, пожалуй, даже несколько неожиданно для себя обнаружили, что они фактически еще не сделали нужных выводов из того обстоятельства, что человек работает, действует, думает, творит, живет, будучи погружен в содержательный (или значимый) мир языка, что язык в указанном аспекте, по сути говоря, представляет собой питательную среду самого существования человека и что язык уж во всяком случае является непременным участником всех тех психических параметров, из которых складывается сознательное и даже бессознательное поведение человека». Теоретическое осознание необходимости динамического подхода к языку стало в настоящее время нормой. Начиная с Гумбольдта, писавшего: «Каждый язык заключается в акте его реального порождения. Расчленение языка на слова и правила — это лишь мертвый продукт научного анализа», и кончая современными лингвистами, проблема функционального, человеческого подхода обсуждалась неоднократно. Так, Ю. Н. Караулов отмечает: «В силу общей бесчеловечности современной лингвистической парадигмы место подлинно антропного фактора в ней, место антропного характера создаваемого ею образа языка занимает антропоморфический, человекоподобный, порождаемый стремлением уподобить — одушевить, оживить, очеловечить — мертвый образ. Это стремление, естественно, приводит к фетишизации языка-механизма, языка-системы и языка-способности, к мифологическому его переживанию. ...Так или несколько иначе понятая система, отождествленная с языком (образом языка), представляет собой на деле объект идеальный, поскольку она есть продукт рефлектирующего ума лингвиста, но, тем не менее, такая система в лингвистической парадигме рассматривается без опосредования ее человеком». В чем же выход? «Выход видится в обращении к человеческому фактору, во введении в рассмотрение лингвистики, в ее парадигму языковой личности как равноправного объекта изучения, как такой концептуальной позиции, которая позволяет интегрировать разрозненные и относительно самостоятельные свойства языка». Б. Ф. Поршнев связывал лингвистическое изучение суггестии, прежде всего, с прагматикой — одним из аспектов нарождающейся в то время семиотики и писал по этому поводу: «Один из основателей семиотики — Ч. Моррис выделил у знаков человеческой речи три аспекта, три сферы отношений: отношение знаков к объектам — семантика; отношение знаков к другим знакам — синтаксис; отношение знаков к людям, к их поведению — прагматика. Все три на деле не существуют друг без друга и составляют как бы три стороны единого целого, треугольника. Но, говорил Моррис, специалисты по естественным наукам, представители эмпирического знания преимущественно погружены в семантические отношения слов; лингвисты, математики, логики — в структурные, синтаксические отношения; а психологи, психопатологи (добавим, нейрофизиологи) — в прагматические. Из трех частей семиотики прагматика наименее продвинута, так как наиболее трудна». Сегодня появилось множество работ, посвященных лингвистической прагматике, и уже можно с достаточной очевидностью сказать, что опасения, высказанные Б. Ф. Поршневым: «возможна ли в рамках „семиотики“ „прагматика“ как особая дисциплина?» оказались обоснованными. «По своему положению, как составная часть семиотики, носящей довольно формализованный характер, она обречена заниматься внешним описанием воздействия знаков речи на поступки людей, не трогая психических, тем более физиологических, механизмов этого воздействия, следовательно, ограничиваясь систематикой». По сути, так и получилось. Сейчас уже ясно, что прагматика, в большинстве случаев, представляет собой область лингвистических исследований без всяких границ, и, самое главное, в ней отсутствуют особые метод и приемы исследований, так что считаться самостоятельной дисциплиной она не может. Сосредоточение внимания большинства исследователей-прагматиков на описании правил и условий успешной коммуникации, которые, к тому же, выводятся чаще всего на основании придуманных примеров, приводит к тому, что, с одной стороны, функционирующий реально язык максимально схематизируется, а с другой, приходится вводить множество дополнительных параметров, «реставрирующих» реальный (или предполагаемый) контекст высказывания («пресуппозиция», «иллокутивный акт», «каузатив» и др.). Теоретический выход из этого противоречия предложил еще Б. Ф. Поршнев: «Но если двинуться к психологическому субстрату, если пересказать круг наблюдений прагматики на психологическом языке, дело сведется к тому, что с помощью речи люди оказывают не только опосредованное мышлением и осмыслением, но и непосредственное побудительное или тормозящее (даже в особенности тормозящее) влияние на действия других». Позже ту же идею высказал Г. В. Колшанский: «К сфере прагматического воздействия относится использование языка в психотерапии, в процессе которой слово используется не просто в его прямом и переносном значении, но и в целях внушения пациенту реальности той картины, которая создается врачом для исцеления больного. В этом случае особенно наглядно проявляется некоторая относительная семантическая свобода языка, которая используется для создания целебно воздействующей идеальной картины (успокоение, снятие страхов и т. д.)». И поскольку «прагматика» является, по существу, термином, дублирующим термин «языкознание», хотя в несколько расширенном значении («нестандартное языкознание; языкознание, выходящее за свои рамки») возможно предположить, что реальным путем к изучению суггестивных механизмов языка является: 1) выход за несуществующие фактически рамки лингвистической прагматики: доведение ее постулатов до логического конца; 2) использование всего рационального, что накоплено в языкознании; 3) подлинно комплексный подход к проблеме (включая разработку особых методов исследования, ориентирующихся не только на вербальные реакции информантов, но и объективные психофизиологические параметры). «Прагматическая направленность любого текста оказывается весьма существенным признаком определенной организации текста, поскольку она ведет к достижению конкретного результата для коммуниканта, т. е. имеются в виду все виды воздействия на них. ...При этом воздействие отправителя текста может выступать либо как непосредственное побуждение к действию, либо как скрытое воздействие для формирования определенного умственного состояния получателя текста. Но в каждом конкретном случае воздействие на получателя информации осуществляется при активизации различных сторон психологического механизма восприятия текста получателем. ...Прагматика может рассматриваться как авторская работа над текстом». Отсюда следует, что для постижения суггестивных свойств языка нужно изучать тексты, а тексты осуществляют явное (семантическое) и скрытое (латентное) воздействие на адресата. С другой стороны, «текст всегда в буквальном смысле парадоксален». Есть ли какие-то универсальные моменты в противоречивых и изменчивых текстах? Интересные мысли высказал по этому поводу А. М. Пешковский в статье «Объективная и нормативная точка зрения на язык»: «Затрудненное понимание есть необходимый спутник литературно-культурного говорения. Дикари просто „говорят“, а мы все время что-то „хотим“ сказать... „Непонятность“ литературного наречия для самых говорящих на нем обусловливается общей сложностью культурной жизни. ...Можно даже сказать, что точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы. Чем меньше слов, тем меньше поводов для недоразумений. Это прямо приводит нас к „непонятности“ литературной речи. Чем литературнее речь, тем меньшую роль играет в ней общая обстановка и общий предыдущий опыт говорящих. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два полюса этой стороны речи: разговор крестьянина с женой об их хозяйстве и речь оратора на столичном митинге. Первые говорят только о том, что или перед их глазами, или переживается ими сообща в течение всей жизни ежедневно, второй говорит обо всем, кроме этого. Обстановка в его речи совершенно отсутствует, а предыдущий опыт распадается на индивидуальные опыты тысячи съехавшихся со всего света лиц, объединенных только общностью человеческой природы. Во сколько же раз ему труднее быть понятым, и во столько раз больше он, поэтому должен стараться говорить понятно! ...Трудность языкового общения растет прямо пропорционально числу общающихся, и там, где одна из общающихся сторон является неопределенным множеством, эта трудность достигает максимума». Конечно, кроме объективности и непредвзятости подхода существовал еще и ряд объективных причин, не позволявший лингвистам вскрыть истинные механизмы суггестивного воздействия. И основной из этих причин можно считать недостаточность собственно лингвистических познаний и методов в конкретных разделах языкознания, ограничение возможностей самой филологии рамками своего времени. Ж. Вандриес в работе «Язык» писал о том, что «человек говорит не только для того, чтобы выразить мысль. Человек говорит также, чтобы подействовать на других и выразить свои собственные чувства. ...Волевой язык еще почти не изучался. Однако же он имеет свое значение, которое становится особенно ясным при изучении проблемы происхождения человеческого языка. ...При рассмотрении этого языка в исторической перспективе обнаруживаются его собственные законы. В грамматике ему принадлежит область повелительного наклонения в глаголе и звательного падежа в имени. Эти категории имеют специальные формы и функции. Когда ...мы соединяли в одном представлении глагольную форму, как „молчи“, именуемую, как „молчание!“ и междометие, как „те...“, это смешение частей речи было возможно только потому, что мы имели дело с языком волевым, в котором четкие различия между глаголом и именем стушевываются». Понимание того, что язык динамичен по своей природе, заставляет лингвистов искать новые способы описания языка. Осмысленная динамизация лингвистики заставляет ее с неизбежностью выйти за собственные рамки, обратиться к исследованиям психологов, социологов, психиатров, а прагматические задачи вербального воздействия на личность и общество в целом, выдвигаемые смежными науками, не позволяют лингвистам оставить в стороне основной предмет своего исследования — функционирующий язык, который не только до Киева доведет, но и до собственного «дома колдуньи». И позволит вернуться обратно... Глава 2. Заветная тропа колдунов (вербальная мифологизация)
Итак, мы вышли на опасную тропу колдунов, пытаясь постичь тайну суггестии. Представители племени азанде ищут колдовскую субстанцию в теле мага, верят в возможность передачи ее по наследству. Однако настоящим «философским камнем» во все времена был язык, «изготовленный» по особому лингвистическому рецепту... Традиционно лингвистика «нацелена» на изучение реальных явлений языка, так или иначе обработанных сознанием. Напротив, явления, связанные с областью бессознательного (не имея в виду патологические реакции), ориентированные на операции с установками личности, оставались пока в стороне от столбовой дороги лингвистики. Суггестивная лингвистика изучает феномен суггестии как комплексную проблему; «увязывает» древние знания и современные методы, традиционный и нетрадиционный подходы. В качестве постулатов (принципов) суггестивной лингвистики можно выделить следующие положения: 1. Язык в целом может рассматриваться как явление суггестивное, поэтому основное внимание в данном исследовании уделяется коммуникативно-волюнтативной (суггестивной) функции языка. 2. Единицей анализа признается текст в широком смысле слова. 3. Суггестивная лингвистика по предмету своего исследования Динамична (изучает процессы), по методам — комплексна, междисциплинарна. 4. Языковая суггестия вероятностна по своей природе, ориентирована на преодоление существующих в каждом синхронном срезе языка норм. Суггестивные механизмы имеют правополушарную ориентацию, воздействуют на установки личности и общества. 5. Универсальный, интегративный, диалектический метод познания, описания и обучения — вербальная мифологизация — методологическая основа суггестивной лингвистики. Сложность взаимоотношений между субъектом и объектом изучения динамической суггестивной лингвистики (личность-текст — тексты мифов, представляющие собой пересекающиеся мифологические поля личности и общества) обусловливает комплексный, междисциплинарный подход этой науки: изучение лингвистических аспектов суггестии невозможно без выхода за рамки языкознания. Наряду с ведущей ролью языка, важной особенностью суггестии как сущности является ее непосредственная связь с областью бессознательного. Проблема бессознательной, (неосознаваемой) психической деятельности своими историческими корнями уходит к началу психологии и философии. На Западе изучение бессознательного привело к созданию глубинной психологии и психоанализа (Фрейд, 1989), трансактному анализу (Берн, 1988), трансперсональной психологии (Ф. Капра) и др. Школа грузинских психологов, созданная Д. Н. Узнадзе, разработала теорию установки, позволяющую по-новому взглянуть, например, на проблему суггестии. Установка — экспериментальное понятие, знание особенностей которого необходимо для того, чтобы иметь возможность заранее предусмотреть, какое направление примут отдельные акты поведения и чем завершится их формирование. По Д. Н. Узнадзе, взаимоотношение между объективной действительностью и живым существом трехчленное: среда — субъект (установка) — поведение. Согласно теории установки воздействие объективной действительности (среды) на сознание, поведение не непосредственное, оно опосредовано установкой. «Поэтому объяснение содержаний сознания самими же содержаниями сознания невозможно; сознание не является обоснованной в самой себе действительностью. Для объяснения сознания необходимо выйти за его пределы — содержание сознания следует объяснить на основе установки, на основе бессознательного психического». Большая научная ценность экспериментального классического метода исследования установки Узнадзе при изучении человеческой психики заключается и в том, что он прост и доступен для использования. Вот простейший вариант этого метода: «Если человеку дать в руки несколько разновеликих шаров, окажется, что у него выработалась установка восприятия разных по величине объектов, в результате равные шары будут казаться ему неравными. Такая установка возникает и действует в том случае, если испытуемый ничего не знает о ее существовании. Подобное положение наблюдается и тогда, когда установка вырабатывается в гипнотическом сне и испытуемому ничего не известно об опыте. Помимо того, даже в случае, если испытуемый знаком с методикой эксперимента и знает, что в опытах после разных шаров ему даются одинаковые, эти последние воспринимаются им иллюзорно, установочно. Роль установки в восприятии реальных объектов значительнее, чем роль сознания, которому известно, что в опыте сравниваются равные шары». Сейчас представители грузинской школы установки предпочитают говорить уже не о первичной установке, а о «целостной установке личности (установке на целевой признак): „Там, где под эгидой сознания сложилась личность со всеми ее ценностями, установка принимает свои бессловесные решения до их осознания нашим „говорящим Я“, иногда вовсе без осознания, но это все же решения в духе данной личности, а не в духе безличных и мрачных инстинктов, населяющих фрейдовское „Оно““. Как связана теория установки с психоанализом? С точки зрения грузинских психологов эта „кишащая тайнами“ область бессознательного является не до-, а постсознательным: „Именно анализируя бессознательное и его функцию в деятельности человека, мы приходим к позитивной характеристике бессознательного как уровня психического отражения, в котором субъект и мир представлены как одно неделимое целое. Установка же выступает как форма выражения в деятельности человека того или иного содержания — личностного смысла или значения, которое может быть как осознанным, так и неосознанным. Функция установки в регуляции деятельности — это обеспечение целенаправленного и устойчивого протекания деятельности человека“. Однако, по мнению ряда психологов, установкой бессознательное не исчерпывается: „Нельзя закрыть глаза на мир личностных смыслов, неподконтрольных сознанию“. Один из участников Тбилисского симпозиума, французский психоаналитик С. Леклер удачно назвал эту таинственную область психики „домом колдуньи“. Установку можно закрепить (легкая задача), создать (задача средней трудности) и изменить (трудная задача). В случае суггестии речь идет, прежде всего, об изменении установок общества или личности, так как „суггестия добивается от индивида действия, которого не требует от него совокупность его интерорецепторов, экстеро-рецепторов и проприорецепторов. Суггестия должна отменить стимулы, исходящие от них всех, чтобы расчистить себе дорогу. Следовательно, суггестия есть побуждение к реакции, противоречащей, противоположной рефлекторному поведению отдельного организма. Ведь нелепо „внушать“ что-либо, что организм и без этого стремится выполнить по велению внешних и внутренних раздражителей, по необходимому механизму своей индивидуальной нервной деятельности. Незачем внушать и то, что все равно и без этого произойдет. Можно внушать лишь противоборствующее с импульсами первой сигнальной системы“. Установки не могут быть преобразованы под влиянием тех или иных односторонних вербальных воздействий. И это естественно, так как коммуникативный акт предполагает наличие, по крайней мере, двух участников, на чем и настаивают лингвисты, рассматривая „диадическую коммуникацию, диалогическое общение, просто диалог — как вид речевой деятельности двух или более партнеров, которые совместно решают определенные задачи при помощи своих речевых действий или диалогических шагов“. Неэффективность методов психотерапии сами психотерапевты объясняют двумя основными причинами: 1. Ограничением чисто вербальными односторонними воздействиями, т. е. той терапией, которую столь ядовито высмеял еще 3. Фрейд в своей работе „О „диком“ психоанализе“ (1923) так как „по самой своей природе смысловые образования нечувствительны к вербальным воздействиям, несущим чисто информативную нагрузку. Не случайно, поэтому Жак Лакан, выдвинувший лозунг „Назад к Фрейду“, перекликается в этом пункте с основоположником психоанализа, замечая: „Функция языка заключается не в информации, а в побуждении. Именно ответа Другого я ищу в речи. Именно мой вопрос констатирует меня как субъекта“ (Ж. Лакан). Иными словами, только общение, выражающее смыслообразующие мотивы и служащее основой для эмоциональной идентификации с Другим, может изменить личностные смыслы пациента“. 2. Ограничением количественным. В диалоге „врач“ — „пациент“ отсутствует социальное подтверждение полученных вновь смысловых установок личности. Отсюда — явно наметившийся сдвиг от индивидуальных к групповым методам психотерапии, как, например, психодрама, Т-группы и т. д., в которых реконструируются личностные смыслы и смысловые установки. Третьей причиной можно было бы назвать отсутствие информации о собственно суггестивных резервах языка. Еще Ф. де Соссюр и Ч. Моррис подчеркивали тесную связь семиотики с психологией. Ярким примером плодотворной разработки теории знаков в психологии служат исследования Л. С. Выготского и Ч. Морриса о роли знаков в регуляции поведения, В. Н. Волошинова (М. М. Бахтина) о семиотической организации сознания, Ч. Осгуда в любой части экспериментальной психосемантики. Осмысление языка как знаковой системы заново открыло для лингвистов предмет их науки и послужило мощным стимулом к развитию структурной лингвистики, а в психоанализе было совершено открытие Фрейда — семиотика. Открытие это принадлежит французскому психоаналитику Жаку Лакану. В 50-х годах Лакан и группа его последователей провозглашают, что модель языка лежит в основе всей теории Фрейда. Уже в своих первых психоаналитических трудах Фрейд показывает, что следами и проявлениями бессознательного являются невротические симптомы и сновидения, ошибочные и симптоматические действия, остроты, а также свободные ассоциации. Своим важнейшим открытием Фрейд считал то, что ему удалось обнаружить смысл этих явлений. Из всех знаковых систем наибольшее внимание основатель психоанализа уделил языку. Еще в период неврологических исследований в своей первой монографии „Афазия“ он даже предпринял попытку развить собственную теорию языка. Лакан утверждает, что в полном собрании сочинений Фрейда на каждой третьей странице затрагиваются филологические проблемы, причем „...анализ вопросов языка становится тем подробнее, чем ближе обсуждение касается бессознательного“. Интерес Фрейда к языку объясняется той особой ролью, которую слово, речь играет в психоаналитическом методе. „При психоаналитическом лечении, — пишет он, — происходит только словесный обмен, разговор между анализируемым и врачом“. Психоанализ — это „talking cure“ — „лечение разговором“, как метко заметила знаменитая пациентка психоаналитика Брейера (то же можно отнести и ко всей психотерапии в целом). Работы Фрейда показывают, что те переживания пациента, которые в результате вытеснения не могут быть выражены им во внешней и внутренней речи (т. е. не осознаются), находят искаженное выражение в невротических нарушениях. „Отсюда — задача психоаналитика: реконструировать на основании имеющихся текстов это вытесненное и бессознательное „означающее“, помочь пациенту понять смысл его невротических проявлений. Возвращение утраченного дискурсивного „означающего“ на свое место, т. е. на место замещающих его симптомов, это и есть осознание вытесненного содержания“. В одном из своих докладов Фрейд сравнивает психотерапевтический эффект осознания патогенных переживаний с магическим заклятием духов: „болезненные состояния не могут существовать, когда их загадка разрешается и разрешение их принимается больными. Едва ли найдется нечто подобное в медицине; только в сказках говорится о злых духах, сила которых пропадает, как только называешь их по настоящему имени, которое они содержат в тайне“. Поиски утраченного в речи пациента смысла составляют самую суть созданного Фрейдом психоаналитического метода. Ведь главным инструментом этого метода является интерпретация — анализ знаковых структур и в первую очередь структур языковых, поскольку как данное (жалобы, пересказ сновидений, ассоциация), так и искомое (вытесненные мысли) являются дискурсивными текстами. По мнению Ж. Лакана, специфика психоанализа заключается именно в том, что: „его средства — это речевые средства, поскольку речь придает функциям индивида смысл; его область — область конкретной речевой ситуации как трансиндивидуальной реальности субъекта, его приемы суть приемы исторической науки...“ Как заметил П. Рикер, „далеко не все в человеке — речь, но в психоанализе — речь и язык“... Наиболее общий вывод Лакана из его работ состоит в том, что бессознательное — это не вместилище хаотических инстинктивных влечений, а „та часть конкретной речи в ее трансиндивидуальном качестве, которой не хватает субъекту, чтобы восстановить целостность (континуальность) его сознательной (т. е. дискретной) речи“. Понятие бессознательного в теории Лакана совпадает, по существу, с „символической функцией“ К. Леви-Стросса, который определяет эту категорию как универсальный набор правил, организующих индивидуальный лексикон и позволяющий субъекту превратить его в речь. Таким образом, бессознательное, согласно Лакану, структурировано как язык, а важнейшими его правилами являются конденсация и смешение. Подтверждения этому положению Лакан находит в работах лингвиста Р. Якобсона, посвященных проблемам афазии. „Маршалл Эделсон, один из наиболее ярких представителей „лингвистического“ психоанализа США, в своих работах проводит параллель между лингвистической трансформационной моделью, разработанной Хомским, и деятельностью бессознательного в том виде, как ее описывает Фрейд в своих ранних трудах. Согласно теории Хомского, в речевой деятельности определенными трансформационными правилами происходит преобразование глубинных семантических структур (абстрактных „ядерных“ предложений) в поверхностные (фонетические) структуры. Подобным образом в деятельности сновидения „скрытые мысли“ — глубинные семантические структуры — трансформируются в пиктографические тексты сновидения — поверхностные структуры. В результате трансформационных операций любое предложение, образ сновидения или симптом, имеющие одну поверхностную структуру, могут репрезентировать собой несколько смыслов (глубинных семантических структур). Это — эффект семантической конденсации. В то же время несколько различных поверхностных структур способны выражать один и тот же смысл. Это — синтаксическое смешение. Таким образом, задача психоаналитика, согласно М. Эделсону, идентична по сути задаче лингвиста: восстановить „вычеркнутые связи между поверхностными и глубинными структурами“ или, другими словами, деконденсировать и реконтекстуализировать поверхностные структуры. Наибольший интерес для построения семиотической модели взаимодействия сознания и бессознательного представляет концепция Фрейда о двух принципиально различных „языках“ и формах мыслительной деятельности „первичного“ и „вторичного“ процессов. Фрейд отождествляет бессознательное с первичным процессом, характеризующимся свободой циркуляции энергии, а систему предсознательного-сознательного с вторичным процессом, где происходит задержка, „связывание“ энергии. Язык и мышление первичного процесса характеризуется следующими особенностями: 1) оперирование предметными представлениями, т.е. мнемическими следами визуальных, тактильных, слуховых и других восприятий, отличающихся слабой дифференцированностью, семантической расплывчатостью, смещенностью и конденсированностью; 2) континуальный характер мышления, пренебрежение к логическим противоречиям; 3) вневременность, или ориентация только в настоящем времени; 4) обращение со словами как с предметными представлениями. Особенности вторичного процесса таковы: оперирование преимущественно словесными представлениями; дискретность операций; абстрактно-логическое мышление“. Социальными психологами (прежде всего, американскими) разработаны различные методы измерения установки личности. Так, Берт Ф. Грин описывает прямые и косвенные методы измерения установки. Наиболее известными из них являются вопросник Терстоуна (высказывание суждений о мнениях с помощью анкеты), метод суммарных оценок Ликкерта и др. Все эти методы предполагают фиксацию реакции, опосредованной сознанием. Нужно, однако, иметь в виду, что „психическая деятельность, где бы она ни проявлялась, не может быть оцениваема только с точки зрения тех или иных субъективных переживаний. Будучи возбуждаема к своей деятельности внешними импульсами, она является фактором, закономерным образом возбуждающим деятельность органов тела, изменяющих внешнюю среду, вследствие чего ее проявления во внешнем мире вполне доступны объективному исследованию“. В. М. Бехтерев вводит в связи с этим обстоятельством термин „объективная психология“, которая „в нашем смысле совершенно оставляет в стороне явления сознания“. Говоря об установках личности и индивидуальном бессознательном невозможно игнорировать феномен массового сознания (МС) — общественных установок — как особого типа общественного сознания, „общественное сознание являет собой удивительный мир. Объективируемое, с одной стороны, в весьма осязаемых продуктах человеческого труда — физического и умственного, в том, что обычно называют материальной и духовной культурой человечества, оно, с другой стороны, реализуется во множестве едва уловимых, проявляющихся лишь в „текущих“ поступках людей образований, вроде традиций и настроений, нравов и верований, социальных симпатий и предрассудков. В значительной своей части созданное вереницей предшествующих поколений, оно вместе с тем в каждый момент существования общества рождается буквально „на глазах“, в потоках мыслей и чувств живущих поколений. Устойчиво зафиксированное в бесконечном ряду разнообразных текстов — книг, документов, произведений искусства, оно одновременно отличается подвижностью, постоянно меняется в своих очертаниях. Поистине, это — целая Вселенная, со своими галактиками, созвездиями, звездами первой, второй и — тут же, совсем рядом — сотой, тысячной величины, Вселенная живая, развивающаяся... Удивительный, сложнейший мир! Однако и познание его сопряжено с гигантскими трудностями“. Французский социолог Ле Бон в книге „Психология масс“ обсуждает изменение индивида в психологической массе: „какого бы рода ни были составляющие ее индивиды, какими схожими или несхожими ни были бы их образ жизни, занятие, их характер и степень интеллигентности, но одним только фактом своего превращения в массу они приобретают коллективную душу, в силу которой они совсем иначе чувствуют, думают и поступают, чем каждый из них в отдельности чувствовал, думал и поступал бы. Есть идеи и чувства, которые появляются или превращаются в действие только у индивидов, соединенных в массы. Психологическая масса есть провизорное существо, которое состоит из гетерогенных элементов, на мгновение соединившихся, точно так же, как клетки организма своим соединением создают новое существо с качествами совсем иными, чем качества отдельных клеток. Главные отличительные признаки находящегося в массе индивида таковы: исчезновение сознательной личности, преобладание бессознательной личности, ориентация мыслей и чувств в одном и том же направлении вследствие внушения и заряжения, тенденция к безотлагательному осуществлению внушенных идей. Индивид не является больше самим собой, он стал безвольным автоматом“. З. Фрейд, анализируя взгляды Ле Бона, Зигеле, Мак Дугалла, объединяет состояния влюбленности, гипноза, массообразования и невроза собственной теорией либидо. Существует также иной подход к надындивидуальным подсознательным явлениям во всех направлениях, затрагивающих передачу опыта человечества из поколения в поколение или пересекающуюся с ней проблему дискретности — непрерывности сознания. Для решения этой фундаментальной проблемы привлекались такие понятия как „врожденные идеи“ (Р. Декарт), „архетипы коллективного бессознательного“ (К. Юнг), „космическое бессознательное“ (Судзуки), „космическое сознание“ (Э. Фромм), „бессознательное как речь Другого“ (Ж. Лакан), „коллективные представления“ (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль) и „бессознательные структуры“ (К. Леви-Стросс, М. Фуко). Иной ход для решения этой проблемы предлагается в исследованиях В. И. Вернадского, который видит источник появления нового пласта реальности в коллективной бессознательной работе человечества. Он называет этот пласт реальности ноосферой. Б. А. Грушин настаивает на существовании в обществе некоторого особого, отличного от уже описанных наукой, типа общественного сознания, а именно: сознания масс. „Массы — это ситуативно возникающие (существующие) социальные общности, вероятностные по своей природе, гетерогенные по составу и статистические по формам выражения (функционирования)“. Следовательно, массовое сознание (МС) — сознание, которым оперирует субъект, которое именно ему присуще. Вербальные тексты, по мнению Б. А. Грушина,— одна из возможных форм МС. Повышенный интерес к массовому сознанию возник, прежде всего, с появлением средств массовой коммуникации. Интерес социологов к текстам массового сознания не случаен. Ш. А. Надирашвили отмечает: „В последние годы вследствие мощного развития социальной психологии было возможным выделить и систематизировать целый ряд социально-психологических закономерностей, обусловливающих формирование общественного мнения, взаимное влияние людей друг на друга. Подобные социальные взаимодействия стали многообразными и сложными в современных условиях, когда такие средства массового воздействия, как пресса, радио, телевидение и пр., превращаются в совершенно привычные и существенные детали нашего быта. Между тем, следует отметить, что хотя эти мощные средства коммуникации сравнительно хорошо выполняют задачу передачи и распространения информации, однако они не могут с таким же успехом вырабатывать взгляды, убеждения и установки людей. Еще американский психолог Клеппер указывал на то, что, изучая общественные воззрения, социологи долго выражали удивление по поводу того, насколько ничтожно в условиях столь гигантского использования средств коммуникации их влияние на взгляды и установки американского общества“. Б. А. Грушин предлагает изучать МС по текстам и выделяет 4 класса текстов массового сознания: 1) автотексты МС, порожденные самой массой — фольклор, письма, разговоры в очередях, разговоры в поездах дальнего следования; 2) квазитексты МС (псевдотексты), которые создаются профессионалами, но приписываются массе; 3) аллотексты МС (аллогенные), которые производятся профессионалами, но поглощаются МС (полностью или фрагментарно); 4) метатексты МС, посвященные анализу текстов МС, а также предполагает 5 возможных направлений анализа текстов МС: - содержательный; - логико-структурный; - морфологический; - функциональный; - феноменологический анализ текста (прогнозирование судьбы текста по его форме). Используя терминологию Б. А. Грушина, можно сказать, что в нашем исследовании производится, прежде всего, феноменологический анализ суггестивных текстов МС, тогда как социологи заняты сегодня исключительно анализом содержания текстов МС (контент-анализом). Поскольку МС и внушение непосредственно связаны между собой и, более того, внушаемость человека в массе резко повышается, необходимо выяснить, в каких формах развивается суггестивное воздействие в наши дни и при этом иметь в виду, что каждый вариант воздействия имеет свои типы текстов. Общая тенденция такова: появляются новые „психотехники“, включающие в себя опыт прошлых поколений, развиваются традиционные направления. Можно выделить 7 разновидностей суггестивных методик: 1) Различные методы аутосуггестии: медитация, аутотренинг (аутогенная тренировка). „Медитация — (лат. meditatio от meditor— размышляю, обдумываю) — умственное действие, направленное на приведение психики человека в состояние глубокой сосредоточенности“. Аутогенная тренировка „в буквальном смысле означает воспитание с помощью специальных упражнений“. 2) Методики гетеросуггестии: внушение, гипноз, при которых „реализация внушений происходит через другое лицо“. В настоящее время гипноз рассматривается как видоизменение (модификация) обычного, нормального сна — частичный („парциальный“) сон — частичное торможение. …Во время гипноза нормализуются пульс, дыхание, концентрация Желудочного сока, вязкость крови и другие показатели. Как и в обычном сне, в гипнозе начинают преобладать процессы восстановления (регенерации) тканей над процессами разрушения и распада клеток и тканей организма. ...Но главное свойство гипноза — способность усиливать словесное внушение врача-психотерапевта», — утверждает П.И.Буль. Здесь традиционные методы дополняются новыми (по крайней мере, вводится новая терминология). Так, А. М. Свядощ пишет о «внушениях наяву», которые «делаются эмоционально насыщенным повелительным („внушающим“) тоном, в виде резких, коротких фраз, обычно несколько раз повторяемых. Речь сопровождается целым потоком сигналов, посылаемых мимикой, жестами и интонацией говорящего, которые могут им при этом не осознаваться». 3) Смешанные методики. Например, «ключ саморегуляции» X. М. Алиева. Вводится при помощи гетеросуггестивных внушений, приводит к аутосуггестии. «Ключ саморегуляции» хорош тем, что позволяет пациенту не зацикливаться на личности гипнотизера, оставляет впечатление свободы выбора и позволяет погружаться в измененное состояние в тот момент, когда у человека возникает такая потребность. 4) Суггестологическое внушение (дистанционное воздействие). По мнению А. П. Дуброва и В. Н. Пушкина это внушение на расстоянии мыслей и действий одного человека другому. «При суггестологии в отличие от гипноза не происходит подавление воли человека, нет сноподобного гипнотического транса, а человек самопроизвольно автоматически выполняет предписанные (установленные заранее) действия или входит в определенное состояние». Поскольку суггестивное внушение производится на расстоянии, бессловесно и отсутствует обычный при гипнозе раппорт, но сохранено зрительное и слуховое восприятие реципиента, то считают, что здесь имеет место своеобразная телепатическая связь, т. е. дистанционная передача мысленного внушения. Основатель суггестологии болгарский ученый-психолог профессор Г. К. Лозанов предполагает участие в этом процессе особого биологического поля. По мнению суггестологов, одно из самых уникальных в мире проявлений суггестологии продемонстрировали психотерапевт А. М. Кашпировский (Винница) и экспериментаторы-суггестологи A. В. Чумак (Москва) и А. В. Игнатенко (Киев). Можно особо отметить специфическое и спорное толкование термина «суггестия», которое приводят в своей книге А. П. Дубровин и B. Н. Пушкин: «внушение без слов, без наведения гипнотического транса». Однако в случае сеансов Кашпировского, наличествуют совершенно реальные тексты, так что определение «бессловесно» к нему никак не подходит. То же можно сказать и о сеансах А. В. Чумака: без установки приготовить для «подзарядки» воду, кремы, мази и пр. вряд бы суггестолог Чумак достиг какого-либо эффекта. 5) Психоанализ и психоаналитическая терапия. «Психоанализ и психоаналитическая терапия применяют принципы психоанализа для понимания и модификации человеческого поведения. Эти две формы лечения сходны в том, что в обеих исследуется психодинамика, которая изучает идеи, импульсы, эмоции и защитные механизмы, которые объясняют, как мозг работает и как он адаптируется. Психоанализ, прежде всего, основывается на интерпретации, являющейся его технической модальностью, и на переносе (связь между психиатром и больным). Психоаналитическая терапия также использует интерпретацию, но меньше сосредотачивается на переносе, а больше — на событиях реальной жизни. Кроме того, психоаналитическая психотерапия подчеркивает текущую интерперсональную активность, тогда как психоанализ пытается восстановить события из прошлой жизни больного. ...Основное требование психоанализа — постепенная интеграция ранее подавленного материала в общую структуру личности». 6) Методики НЛП (нейролингвистического программирования), «эриксоновский» гипноз. Нейро-Лингвистическое Программирование — это новая модель человеческой коммуникации и поведения. В своих истоках НЛП развивалось на базе изучения деятельности магов, колдунов, шаманов, а также таких корифеев психиатрии как Милтон Эриксон, Фриц Перлз, Вирджиния Сатир и др. Лингвистическая основа НЛП — трансформационная грамматика Н. Хомского (одно из направлений динамической лингвистики 60-х годов). По мнению авторов, НЛП — это ясная эффективная модель человеческого внутреннего опыта и коммуникации. Используя принципы НЛП, можно описать любую человеческую активность весьма детальным образом, что позволяет производить легко и быстро глубокие и устойчивые изменения этой активности. Методы и техники НЛП широко применяются в современной психотерапии. «Многие люди обвиняют НЛП в технологичности, подразумевая, что оно холодно и бесчувственно. Однако те же самые люди рады использовать технологию центрального отопления для обогрева своих домов вместо дымного огня, использовавшегося их предками. Они также используют антибиотики и иммунизацию, чтобы сохранить здоровье своих детей, не думая о невероятно сложной технологии, стоящей за этим. Месяцы теплых эмоций не помогут неграмотно пишущему ребенку и не освободят его от связанных с этим насмешек, переживаний неудач и самообвинений; час или два технологии НЛП могут научить его писать правильно и снабдить его ощущением достижения и самоценности. Вся эмпатия в мире не поможет фобию; полчаса технологии НЛП могут избавить его от жизни вперемешку со страхом. Если вы будете держать руку умирающего друга, это может облегчить его конец; правильная медицинская технология может спасти ему жизнь»,— так эмоционально доказывают преимущество НЛП как метода Коннира и Стив Андреасы. 7) Методики групповой психотерапии (психодрама, гештальт-группы, группы трансактного анализа, тренинговые — Т-группы, группы встреч, группы телесной терапии, группы танцевальной терапии, группы терапии искусством, группы холотропного дыхания и пр. Групповые формы психологической работы стали знамением времени в силу своей экономичности и эффективности. Речь идет о специально создаваемых малых группах, участники которых при содействии ведущего-психолога включаются в своеобразный опыт интенсивного общения, ориентированный на оказание помощи в самосовершенствовании. Работа таких групп (в том числе телесных, танцевальных и пр.) сопровождается словесной продукцией как ведущего, так и участников группы, которая оказывает суггестивное воздействие наряду с другими методами. Каждое из направлений располагает особыми типами текстов. Представительница Грузинской школы установки Р. Г. Мшвидобадзе доказала существование неосознаваемых морфологических и синтаксических параметров в языке, влияющих на социальную перцепцию (1984). Психотерапевтами же до сих пор «поиск эмоционально воздействующих форм при необходимости выразить то или иное состояние чаще всего определяется интуитивно. Этот процесс связан с самыми тонкими проявлениями сознательной и неосознаваемой деятельности человека и все еще далек от исчерпывающего научного объяснения». Если это действительно так, задача жрецов-лингвистов — осознать эти параметры и научиться рационально их использовать. Это тем более важно, что в психиатрической литературе появляется все больше сообщений о заболеваниях ятрогенией. Стоит ли дальше уповать на интуицию и утешать себя мыслью о том, что «нам не дано предугадать как слово наше отзовется...»? Более того, существует ряд методов исключительно вербального воздействия на подсознание человека, так как язык — это кратчайший путь латентного влияния на установки (к тому же общепризнанно выделение вербальной магии как особого вида магического воздействия, не сопровождаемого ритуалами...). Закономерно, что по мере усложнения коммуникативных задач возрастает трудность языкового общения, возникает необходимость в индивидуализации и множественности смысла. С точки зрения воздействующей роли языка тексты психотерапевтического воздействия можно отнести к сложно организованным текстам. Преимущество изучения этих текстов перед текстами средств массовой коммуникации, прежде всего, в том, что можно достаточно быстро и надежно получить информацию об успешности осуществленной коммуникации (при помощи измерения психофизиологических параметров состояния личности посредством специальной аппаратуры либо при помощи нестандартных вербальных процедур получения информации). С другой стороны, возвращаясь к теории текстов МС, разработанной Б. А. Грушиным, можно заметить, что человечество с непоколебимой настойчивостью в течение веков разрабатывало, сохраняло и использовало специальные тексты, представленные в классификации как «автотексты массового сознания», часть из которых (заговоры, мантры, молитвы) представляют собой универсальные, в высокой степени формализованные тексты, которые с полным правом можно охарактеризовать как суггестивные (прагматически маркированные). Можно предложить 3 классификации суггестивных текстов: I. По степени распространенности и универсальности 1) Универсальные суггестивные тексты (тексты МС), создаваемые на протяжении длительного времени, передаваемые из поколения в поколение и продолжающие функционировать: а) автотексты МС (прежде всего, заговоры, заклинания, отчасти — мантры); б) аллотексты МС (молитвы, формулы аутотренинга, гипноза). 2) Индивидуальные суггестивные тексты (тексты психотерапевтического воздействия, проповеди). II. По направленности воздействия 1) аутосуггестивные тексты (мантры, молитвы, самонастрои, формулы аутотренинга); 2)гетеросуггестивные тексты (формулы гипноза, психотерапевтические тексты, проповеди и пр.). 3)ауто-гетеросуггестивные тексты смешанного типа. III. По характеру использованного мифа а) модификация роли Божества; б) присоединение к чужому мифу; в) отрицание какого-то мифа. По мнению В. В. Налимова, «процесс порождения или понимания текста — это всегда творческая акция. С нее начинается создание новых текстов, и ею завершается их понимание. Все это осуществляется в подвалах сознания, где мы непосредственно взаимодействуем с образами. Для нас, людей современной культуры, это чаще всего неосознаваемый процесс, скрытый под покровом логически структурированного восприятия Мира. Осознаваемый выход в подвалы сознания осуществляется в измененных состояниях сознания, возникающих с помощью, скажем, медитации». Однако прежде чем погрузиться в медитацию, не стоит ли воспользоваться опытом «лингвистов-жрецов», разгадчиков чужих тайн? Ведь сама по себе ориентация лингвистики на чужое слово, по сути, является ее неосознанной пока еще ориентацией именно на изучение латентного воздействия. Вернемся еще раз к идеям В. Н. Волошинова (М. М. Бахтина): «Поразительная черта: от глубочайшей древности и до сегодняшнего дня философии слова и лингвистическое мышление зиждутся на специфическом ощущении чужого, иноязычного слова и на тех задачах, которые ставит именно чужое слово сознанию — разгадать и научить разгаданному. ...Свое слово иначе ощущается, точнее, оно обычно вовсе не ощущается как слово, чреватое всеми теми категориями, какие оно порождает в лингвистическом мышлении и какие оно порождало в философско-религиозном мышлении древних. Родное слово — „свой брат“, оно ощущается как своя привычная одежда или, еще лучше, как та привычная атмосфера, в которой мы живем и дышим. В нем нет тайн; тайной оно могло бы стать в чужих устах, притом иерархически-чужих, в устах вождя, в устах жреца, но там оно становится уже другим словом, изменяется внешне или изъемлется из жизненных отношений (табу для житейского обихода или архаизация речи), если только оно уже с самого начала не было в устах вождя-завоевателя иноязычным словом. Только здесь рождается „Слово“, только здесь — incipit philosophia, incipit philologia. ...Ориентация лингвистики и философии языка на чужое иноязычное слово отнюдь не является случайностью или произволом со стороны лингвистики и философии. Нет, эта ориентация является выражением той огромной исторической роли, которую чужое слово сыграло в процессе создания всех исторических культур. Эта роль принадлежала чужому слову во всех без исключения сферах идеологического творчества — от социально-политического строя до житейского этикета. Ведь именно чужое иноязычное слово приносило свет, культуру, религию, политическую организацию (шумеры — и вавилонские семиты; яфетиды — и варварские народы; Византия, „варяги“, южно-славянские племена — и восточные славяне и т. п.). Эта грандиозная организующая роль чужого слова, приходившего всегда с чужой силой и организацией или преднаходимого юным народом-завоевателем на занятой им почве старой и могучей культуры, как бы из могил порабощавшей идеологическое сознание народа-пришельца,— привела к тому, что чужое слово в глубинах исторического сознания народов срослось с идеей власти, идеей силы, идеей святости, идеей истины и заставило мысль о слове преимущественно ориентироваться на чужое слово». Несомненным достоинством нетрадиционного подхода Б. Ф. Поршнева является органичное сочетание явлений психологических и лингвистических, поиск общих закономерностей, объяснение изменений психики через факты языка и наоборот. «Ключ ко всей истории второй сигнальной системы, движущая сила ее прогрессирующих трансформаций — перемежающиеся реципрокные усилия воздействовать на поведение другого и противодействовать этому воздействию. Эта пружина, развертываясь, заставляла двигаться с этапа на этап развитие второй сигнальной системы, ибо ни на одной из противоположных друг другу побед невозможно было остановиться». Таким образом, сама логика развития человечества обусловила наличие суггестии во всех без исключения культурах. Аналогичной константой является миф: «Обыкновенно полагают, что миф есть басня, вымысел, фантазия. Я понимаю этот термин как раз в противоположном смысле. Для меня миф — выражение наиболее цельное и формулировка наиболее разносторонняя — того мира, который открывается людям и культуре, исповедующим ту или иную мифологию. ...Миф есть наиболее полное осознание действительности, а не наименее реальное, или фантастическое, и не! наименее полное, или пустое. Для нас, представителей новоевропейской культуры, имеющей материалистическое задание, конечно, не по пути с античной или средневековой мифологией. Но зато у нас есть своя мифология, и мы ее любим, лелеем, мы за нее проливаем и будем проливать нашу живую и теплую кровь». «Миф,— по 3. Фрейду,— является тем шагом, при помощи которого отдельный индивид выходит из массовой психологии. Первым мифом, несомненно, был миф психологический, миф героический; пояснительный миф о природе возник, вероятно, много позже». «Эмоциональная объективность» мифа как способ осознания действительности по А. Ф. Лосеву и «лживость» как возможность выхода индивида из массы по 3. Фрейду, в сущности, есть одно и то же качество, позволяющее человеку выделиться из массы и проявить себя как личность. Если язык в целом ориентирован на суггестивное воздействие, то специфический корпус прагматически маркированных текстов может служить ключом к тайне суггестии. В сущности, речь идет о j системном описании особенностей суггестивных текстов, позволяющих им быть в предельной степени эффективными и мифологичными. А. Ш. Тхостов в статье «Болезнь как семиотическая система» выдвигает ряд любопытных идей, проливающих свет и на природу суггестии: «В семиотической системе главным принципом является semiosis— отношение между означаемым и означающим, превращающее последнее в знак. ...Хотя обычно говорят, что означающее выражает означаемое, в действительности в каждой семиотической системе имеются не два, а три элемента: означающее, означаемое и, собственно, знак, представляющий собой результат связи первых двух элементов». Таким образом, отношение означающего и означаемого может особым образом трансформироваться, порождая вторичную семиотическую систему, названную Р. Бартом мифологической. Специфика этой вторичной системы (мифа) «заключена в том, что он создается на основе некоторой последовательности знаков, которая существует до него; миф является вторичной семиологической системой. Знак... первой системы становится всего лишь означающим во второй системе... Идет ли речь о последовательности букв или о рисунке, для мифа они представляют собой знаковое единство, глобальный знак, конечный результат, или третий элемент первичной семиологической системы. Этот третий элемент становится первым, т. е. частью той системы, которую миф надстраивает над первичной системой. Происходит как бы смещение формальной системы первичных значений на одну отметку шкалы». А. Ш. Тхостов продолжает ту же идею: «В мифе сосуществуют параллельно две семиотические системы, одна из которых частично встроена в другую. Во-первых, это языковая система (или иные способы репрезентации), выполняющая роль языка-объекта, и, во-вторых, сам миф, который можно назвать метаязыком и в распоряжение которого поступает язык-объект. Совершенно не имеет значения субстанциональная форма мифа, важен не сам предмет сообщения, а то, как о нем сообщается, и, анализируя метаязык, можно в принципе не очень интересоваться точным строением языка-объекта, в этом случае важна лишь его роль в построении мифа». Миф — метаязык и представлен в виде корпуса суггестивных текстов, порождаемых массовым и индивидуальным сознанием с целью оптимального воздействия. Языковая система (язык-объект) выделяет для метаязыка свои особые средства и приемы, придающие мифу ту оригинальную и образную форму, которая вызывает безусловное доверие личности или общества. Напомним, что и само слово «миф» произошло от греческого «mytnos»— «речь», «слово», «толки», «слух», «весть», «сказание», «предание». Наличие экстралингвистических признаков помогает закрепить в массовом и индивидуальном сознании то, что вербализовано и принято как миф. Как заметил М. Элиаде «уже более полувека западноевропейские ученые исследуют миф совсем с иной позиции, чем это делалось в XIX веке. В отличие от своих предшественников они рассматривают теперь миф не в обычном значении слова как „сказку“, „вымысел“, „фантазию“, а так, как его понимали в первобытных и примитивных обществах, где миф обозначал, как раз наоборот, „подлинное, реальное событие“ и, что еще важнее, событие сакральное, значительное и служащее примером для подражания». Труды отечественных философов, литературоведов, культурологов, поэтов свидетельствуют об аналогичном подходе и дают нам много определений «мифа», из которых следует: 1. Миф составляет историю подвигов сверхъестественных существ. Н. А. Бердяев: «Миф есть конкретный рассказ, запечатленный в народной памяти, в народном творчестве, в языке, о событиях и первофеноменах духовной жизни, символизированных, отображенных в мире природном. Сама первореальность заложена в мире духовном и уходит в таинственную глубь. Но символы, знаки, изображения и отображения этой первореальности даны в природном мире. Миф изображает сверхприродное в природном, сверхчувственное в чувственном, духовную жизнь в жизни плоти, символически связывает два мира». Н. К. Рерих: «Профессор Варшавского университета Зелинский, в своих интересных исследованиях о древних мифах, пришел к заключению, что герои этих мифов вовсе не легендарные фигуры, но реально существовавшие деятели. К тому же заключению пришли и многие другие авторы, таким образом, опровергая материалистическую тенденцию прошлого столетия, которая пыталась изображать все героическое лишь какими-то отвлеченными мифами. Так, французский ученый Сенар пытался доказать, что Будда никогда не существовал, и не что иное, как солнечный миф, что было сейчас же опровергнуто археологическими находками. ...В этой борьбе между познающими и отрицающими так ясна граница, разделяющая всю мировую психологию. При этом чрезвычайно поучительно наблюдать, насколько все отрицатели, со временем, оказываются побежденными; те же, кто защищал Героизм, Истину, Великую реальность, они находят оправдание в самой действительности». 2. Это сказание представляется как абсолютно истинное (так как оно относится к реальному миру) и как сакральное (ибо является результатом творческой деятельности сверхъестественных существ). С. Н. Булгаков: «...Мифу присуща вся та объективность или кафоличность, какая свойственна вообще „откровению“: в нем, собственно, и выражается содержание откровения, или, другими словами, откровение трансцендентного, высшего мира совершается непосредственно в мифе, он есть те письмена, которыми этот мир начертывается в имманентном сознании, его проекция в образах». А. Ф. Лосев: «Миф всегда и обязательно есть реальность, конкретность, жизненность и для мысли — полная и абсолютная необходимость, нефантастичность, нефиктивность. ...Он не выдумка, а содержит в себе строжайшую и определеннейшую структуру и есть логически, т. е. прежде всего, диалектически, необходимая категория сознания и бытия вообще». Н. А. Бердяев: «За мифом скрыты величайшие реальности, первофеномены духовной жизни. Мифотворческая жизнь народов есть реальная духовная жизнь, более реальная, чем жизнь отвлеченных понятий и рационального мышления». 3. Миф всегда имеет отношение к созданию (творчеству) — формосодержательному. Именно в ближайшем родстве с мифотворчеством «находится художественное творчество, поскольку оно основывается на подлинном „умном видении“. Образы для художника имеют в своем роде такую же объективность и принудительность, как и миф. Образы владеют творческим самосознанием художника, он же должен овладеть ими в своем произведении, творчески закрепить их в имманентном мире. Его задача — надлежащим образом видеть и слышать, а затем воплотить увиденное и услышанное в образе (безразлично каком: красочном, звуковом, словесном, пластическом, архитектурном); истинный художник связан величайшей художественной правдивостью, — он не должен ничего сочинять». 4. Познавая миф, человек познает «происхождение» вещей, что позволяет овладеть и манипулировать ими по своей воле. М. Элиаде: «Речь идет не о „внешнем“, „Абстрактном“ познании, но о познании, которое „переживается“ ритуально, во время ритуального воспроизведения мифа или в ходе проведения обряда (которому он служит основанием)». А. Белый: «Причинное объяснение на первоначальных стадиях развития человечества есть только творчество слов; ведун— это тот, кто знает больше слов; больше говорит; и потому — заговаривает. Неспроста магия признает власть слова. Сама живая речь есть непрерывная магия; удачно созданным словом я проникаю глубже в сущность явлений, нежели в процессе аналитического мышления; мышлением я различаю явление; словом я подчиняю явление, покоряю его; творчество живой речи есть всегда борьба человека с враждебными стихиями, его окружающими; слово зажигает светом победы окружающий меня мрак». 5. Так или иначе миф «проживается» аудиторией, которая захвачена священной и вдохновляющей мощью воссозданных в памяти и реактуализованных событий. М. Элиаде: «Проживание мифа предполагает наличие истинно „религиозного“ опыта, поскольку он отличается от обычного опыта, от опыта каждодневной жизни. ...Речь идет не о коллективном воссоздании в памяти мифических событий, но об их воспроизведении! Мы ощущаем личное присутствие персонажей мифа и становимся! их современниками. Это предполагает существование не в хронологическом времени, а в первоначальной эпохе, когда события произошли впервые. Именно поэтому можно говорить о временном пространстве мифа, заряженном энергией. Это необычайное, „сакральное“ время, когда обнаруживаются явления новые, полные мощи и значимости. Переживать заново это время, воспроизводить его как можно чаще, заново присутствовать на спектакле божественных творений, вновь узреть сверхъестественные существа и воспринять их урок творчества — такое желание просматривается во всех ритуальных воспроизведениях мифов». Таким образом, миф не является вымыслом, а, напротив, выражает героическую реальную объективную сущность происходящего в ее значимости для будущего при помощи специального языка —символического: «Содержание мифа выражается в символах... Нельзя художественно солгать, и нельзя мифотворчески покривить душой: не человек создает миф, но миф высказывается через человека». По мнению П. А. Флоренского, «рассмотреть, в чем магичность слова, это значит понять, как именно и почему словом можем мы! воздействовать на мир». Л. Н. Мурзин отчасти отвечает на вопрос «как?»: «В центр системы языка традиционно ставилось слово. Это справедливо, если язык трактовать как статическую систему: слово центрально по уровню, к которому оно принадлежит, оно достаточно автономно по сравнению с морфемой и достаточно структурно по сравнению с предложением. Но если систему языка рассматривать в динамическом аспекте, то окажется, что в центре языковой системы мы должны будем поставить качественно иную единицу — номинацию. Слово представляется лишь частным случаем воплощения номинации и может рассматриваться как одна из ее форм. Номинация есть означивание объекта действительности, т. е. выражение объекта в любой знаковой форме — не только слова, но и словосочетания, предложения, дискурса или текста какого угодно объема. ...Номинация как единица динамическая является следствием текстопорождения — текст не может начинаться иначе, как с обозначения этого объекта в целом. Правда, мы можем воспользоваться невербальными средствами, указывая, например, с помощью жеста, на предполагаемый для дальнейшего семиотического описания объект. Но этот жест есть не что иное, как обозначение данного объекта. При описании абстрактного объекта вероятность вербального обозначения возрастает. Обозначить объект словом — это значит приписать ему признак, т. е. осуществить операцию предицирования. То, что признак является здесь чисто словесным, не делает эту операцию менее значимой. В. В. Виноградов приводит данную А. И. Герценом образную оценку номинации. А. И. Герцен писал, что название — страшная вещь. Когда говорят: „Это убийца“, то мы представляем нож, кровь, искаженное лицо, зверство и т. п. Если же говорят: „Он убил“, то мы представляем не образ конкретного объекта, а само действие. В номинации убийца мы имеем нечто большее, чем в „он убил“: мы получаем качественно новый объект». Таким образом, то, о чем в образной форме пишет А. Белый, характеризуя «живое творчество жизни» (мифотворчество) и есть номинация — выражение объекта действительности в знаковой форме: «Поэтическая речь и есть речь в собственном смысле; великое значение ее в том, что она ничего не доказывает словами; слова группируются здесь так, что совокупность их дает образ; логическое значение этого образа неопределенно; зрительная наглядность его неопределенна также, мы должны сами наполнить живую речь познанием и творчеством; восприятие живой, образной речи побуждает нас к творчеству; в каждом живом человеке эта речь вызывает ряд деятельностей; и поэтический образ досоздается — каждым; образная речь плодит образы; каждый человек становится немного художником, слыша живое слово. Живое слово (метафора, сравнение, эпитет) есть семя, прозябающее в душах; оно сулит тысячи цветов; у одного оно прорастает как белая роза, у другого как синенький василек. ...Главная задача речи — творить новые образы, вливать их сверкающее великолепие в души людей, дабы великолепием этим покрыть мир. ...Творческое слово созидает мир. ...Живая речь — вечно текущая, созидающая деятельность, воздвигающая перед нами ряд образов и мифов; наше сознание черпает силу и уверенность в этих образах; они — оружие, которым мы проницаем тьму». Как мы отмечали выше, суггестивное (латентное) воздействие имеет установочный характер, правополушарно, а правое полушарие, по данным психологов, характеризуется следующими особенностями: 1) отражает мир как участник происходящего, выявляя индивидуальные особенности объектов и событий. Нарушение его функций приводит к изменению восприятия в сторону снижения акту альности событий для человека — тогда отмечается дереализация или деперсонализация; 2) тесно связано с чувственной информацией, которая воздействует «здесь и сейчас»; перерабатывает сигналы, получаемые человеком непосредственно от своего собственного тела — в подавляющем большинстве не осознаваемые; 3) с правым полушарием теснее связано непроизвольное запоминание; 4) тесная связь отрицательных эмоций с правым полушарием объясняется тем, что неприятные ситуации связаны с опасностью, последняя требует быстрого и точного реагирования. Таким образом, способствуя обострению внимания, отрицательные эмоции повышают скорость реакций и тем улучшают оперативный прогноз; 5) правое полушарие теснее связано с порождением целей, а цель предполагает личную эмоциональную значимость некоего события для человека. Особо тесно правое полушарие связано с эмоциональными подсознательными процессами; 6) правое полушарие «более искренне» и на левой половине лица выражается в большей мере «истинное чувство», тогда как на правой мимика в большей мере произвольно корректируется; 7) правостороннее мышление не чувствительно к противоречиям. Действительность сама по себе не знает логических противоречий, они возникают лишь как результат взаимодействия с ней человека; 8) правосторонний язык адекватен особым формам человеческой практики, где он обладает большей выразительностью, чем левосторонний. Образный язык, свойственный переработке правого полушария, в большей степени общий для всех народов. От слова-номинации — к номинации-тексту — вот путь создания мифа. Правополушарная ориентация проявляется здесь, прежде всего, на уровне смысла, неотделимого от формы. «Весь процесс творческой символизации уже заключен в средствах изобразительности, присущих самому языку... Создание словесной метафоры (символа, т. е. соединения двух предметов в одном) есть цель творческого процесса; но как только достигается эта цель средствами изобразительности и символ создан, мы стоим на границе между поэтическим творчеством и творчеством мифическим; независимость нового образа „а“ (совершенной метафоры) от образов, его породивших („в“, „с“, где „а“ получается или от перенесения „в“ в „с“, или обратно: „с“ в „в“), выражается в том, что творчество наделяет его онтологическим бытием, независимо от нашего сознания; весь процесс обращается: цель (метафора-символ), получившая бытие, превращается в реальную действующую причину (причина из творчества: символ становится воплощением; он оживает и действует самостоятельно: белый рог месяца становится белым рогом мифического существа: символ становится мифом; месяц есть теперь внешний образ тайно скрытого от нас небесного быка или козла: мы видим рог этого мифического животного, самого же его не видим. Всякий процесс художественного творчества в этом смысле мифологичен». Рассматривая проблему суггестии в искусстве, А. Б. Добрович утверждает, что «суггестивное воздействие художественного произведения — это в первую очередь воздействие на нашу установку... Так установка ...начинает претендовать на роль режиссера тех фильмов, которые, по выражению Феллини, мы видим „на внутренней поверхности своих век“». Объясняя появление мифов, А. М. Кондратов и К. К. Шилий опираются на информационную теорию эмоций известного психолога П. В. Симонова, согласно которой эмоция возникает при недостатке информации для удовлетворения потребностей. Эмоция как бы компенсирует этот недостаток, побуждая животное и человека к действию, к поиску той самой информации, которой ему недостает. Жизнь в ожидании неизвестных бед может привести к разрушению психики, стрессам, нервным срывам. К счастью, природа наградила человека своеобразным защитным механизмом. Это качество — потребность в объяснении словом, способность к мифотворчеству. При этом мифы общества в целом (эгрегора) и миф каждой отдельной личности одинаково важны, нуждаются в осознании и своевременной вербализации. Определяя миф как объективную, реальную, образную, символичную вербальную сущность, эмоционально «проживаемую» и творчески закрепленную в тексте, философы, поэты, этнографы, лингвисты уже обнаружили метод вербальной мифологизации и, более того, продемонстрировали его универсальность в общности своих подходов. Нам осталось только обозначить данную общность означенных в качестве особого метода ВМ — Сотворения Мифов и отметить, что он представляет собой не только интегративный диалектический метод познания и описания действительности, но и идеальную модель коммуникативного взаимодействия личности с другими личностями и обществом. Итак, мифологическая тропа колдунов привела нас прямо к порогу таинственного «дома колдуньи». Осталось только подобрать подходящий ключ и открыть древнюю дверь нашего подсознания... Глава 3. Ключ отворяющий (язык в зеркале суггестии)
Всеобъемлюще могущество языка... Потому что, если человек— это текст, то его задача гармонично «вписаться» в другие тексты, найти свои заветные слова. Изучение вербальной суггестии может помочь в этом... Магия языка — вот ключ к подсознанию, условие самосовершенствования. Человечеству известны случаи «просветления», «озарения» в момент травмы, или, наоборот, затемнения и распада сознания, вызываемого наркотиками, ЛСД, алкогольным опьянением или экстремальными условиями. Лингвисты и психологи изучают язык таких состояний. Однако задачи данного исследования иные: описать суггестивные факты языка с позиций новейших достижений языкознания, разработать эффективные модели коммуникации и метод обучения этим моделям. Важным становится не только то, что говорить, но и как. В сущности, вход в подсознание — это выход за свои собственные рамки, прежде всего, языковые. И точно так же, как зародыш проходит во чреве матери за 9 месяцев все стадии развития человечества, а ребенок в сжатые сроки овладевает языком, проявляя и его разнообразные архаические формы, постижение содержания (сущности) суггестивной лингвистики и есть путь к началу человеческой (а значит, и моей, личной) истории. Это путь к языку. Сейчас мы находимся в метафорической темной комнате с массой закрытых Дверей. Некоторые из них закрыты нашими родителями еще в детстве, к другим мы боимся приблизиться сами (вдруг за ними чудовища!). А в результате теряем ориентацию, получаем то самое неустойчивое состояние, которое именуют неврозом: не видим, не слышим, не ощущаем. Не знаем. Попробуем подобрать подходящие ключи к неведомым дверям. Попытаемся зажечь фонарь, который поможет нам увидеть нужные двери и не заблудиться во мраке бессознательного. Имя этому универсальному ключу — языковая суггестия. Появление «суггестивной лингвистики» есть, по сути, попытка вынести невыносимую истину, сделать шаг не только к сознанию, но и к тайнам бессознательного. Влиять, воздействовать, управлять, манипулировать (действия, направленные на других)... А с другой стороны — оберегаться, защищаться, предостерегаться, огораживаться (служить собственной безопасности). Аутосуггестия, гетеросуггестия, контрсугтестия... Все эти явления интересуют нас в равной степени в своем отношении к личности и массовому сознанию и являются содержанием суггестивной лингвистики. Содержанию должна соответствовать адекватная форма (внутренняя организация содержания), которая связана с понятием структура — совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе. Попытку выстроить структуру вербальной суггестии (а значит, и науки, изучающей это явление) предпринял историк Б. Ф. Поршнев, утверждавший, что суггестия — это возможность навязывать многообразные и в пределе даже любые действия, а также возможность их обозначать. «Если идентификация, отождествление (сигнала с действием, фонемы с фонемой, названия с объектом, смысла со смыслом) служит каналом воздействия, то деструкция таких отождествлений или их запрещение служит преградой, барьером воздействию, что соответствует отношению недоступности, независимости. Чтобы возобновить воздействие, надо найти новый уровень и новый аппарат. Можно перечислить примерно такие этажи: 1) фонологический, 2) номинативный, 3) семантический, 4) синтаксическо-логический, 5) контекстуально-смысловой, 6) формально-символический». Б. Ф. Поршнев не уточняет, что он подразумевает под каждым уровнем воздействия (развития) языка. Однако можно предположить, что все эти уровни присутствуют в суггестивных текстах и в той или иной мере являются значимыми. Можно полагать также, что наименее осознаваемыми являются фонологический и синтаксическо-логический уровни, а номинативный и формально-симвоческий принимают максимальное участие в вербальной мифологизации действительности. Б. А. Грушин выстраивает иную структуру анализа текстов МС: 1) содержательный; 2) логико-структурный, 3) морфологический, 4) функциональный, 5) феноменологический анализ текста, причем утверждает, что социологи в состоянии сегодня заниматься только содержательным анализом текстов, используя контент-анализ. Представительница Грузинской школы установки, психолог Р. Г. Мшвидобадзе отмечает: «Если допустить, что человек весьма часто скрывает свои отношения и эмоции или просто не думает о них во время коммуникации, то это, естественно, мало отражается на лексическом запасе, поскольку говорящий легко контролирует как лексику, так и другие выразительные средства, но, тем не менее, информация все же просачивается, следует искать более формальные, неосознанные характеристики и их связь с тем или иным отношением или эмоцией». В результате проведенных экспериментов Р. Г. Мшвидобадзе выяснила, что индексальная информация (в данном случае информация о положительных и отрицательных установках индивида) передается через языковый канал не только при помощи лексико-семантических средств, но и таких формальных языковых параметров, которые в сознании говорящего не несут такой нагрузки. Говорящий использует синтаксические и морфологические параметры не специально (осознанно) как, скажем, использовал бы лексические средства, например, слова «хорошо», «нравится» для выражения положительной установки, а неосознанно, на установочном Уровне. Выводы Р. Г. Мшвидобадзе чрезвычайно интересны, но не следует забывать, что это исследование проводилось все-таки в рамках психологии, поэтому уровни языка не были представлены во всей возможной полноте, да и задачи ставились более скромные: выяснить корреляцию между грамматико-синтаксическими параметрами текста и положительной или отрицательной установкой личности. С нашей точки зрения, структура суггестивной лингвистики Должна определяться двумя составляющими: структурой языка в челом, рассмотренной через призму феномена суггестии. В структуре языка выделяются ряды в каком-либо отношении однородных единиц — уровней. Э. Бенвенист предложил выделить следующие уровни языка и лингвистического анализа: - предложение - знак - фонема, а Л. Н. Мурзин дополнил иерархию, предложив ввести уровень текста «как наивысший уровень языка» и «еще более высокий и поэтому наиболее неопределенный уровень — уровень культуры». Спускаясь с высшего уровня на низший, мы получаем лингвистическую форму, а переходя с низшего уровня на высший, получаем лингвистическое значение. Суггестивная лингвистика только зарождается как предметная область. Тем более ценно появление теории, формулирующей основные постулаты этой дисциплины, изложенной профессором! Л. Н. Мурзиным: 1. Язык может рассматриваться в целом как явление суггестивное (суггестивная система). Иными словами, все компоненты языка потенциально суггестивны. 2. Суггестивная лингвистика — наука междисциплинарная, находящаяся на стыке филологии и психологии. Поэтому наблюдая язык, следует учитывать также физиологическую реакцию. 3. Форма воплощения суггестивности языка — текст в широком смысле слова. Текст может быть как вербальным, так и невербальным (жесты, мимика и т. д.), т. е. текст можно рассматривать как знаковую систему, включающую в себя «веер языков». Следовательно, компоненты текста — знаковые компоненты, средства суггестии. 4. Суггестивная лингвистика имеет динамическую природу: изучает процессы воздействия (тексты производятся, а не воспроизводятся). 5. Языковая суггестия вероятностна по своей природе. 6. Любые суггестивные компоненты разделяют знаковые свойства двусторонности. 7. Правомерно рассматривать процесс направленного воздействия в традициях теории коммуникации. В таком случае воздействующую личность (субъекта воздействия) можно назвать суггестором,а объект воздействия — суггестантом. Они взаимодействуют между собой посредством механизмов внушения, запускаемых вербальными и невербальными средствами. «Обработка» суггестии зависит от уровня суггестивной восприимчивости суггестанта. Нас одинаковой мере интересует лингвистика суггестора, лингвистика суггестанта и корпус суггестивных текстов, обеспечивающих эффективное, целенаправленное и предсказуемое воздействие. Естественно, что процесс преобразования суггестии от суггестора к суггестанту невероятно сложен — это своего рода «черный ящик» и трудно определить, что происходит в момент воздействия. Суггестант принимает лишь то, что соответствует его целостной установке личности. Важны здесь и уровень внушаемости (суггестивной восприимчивости) суггестанта, уровень его интеллекта (чем выше уровень, тем выше сопротивление), а также установка на суггестора. Как писал психотерапевт А. Б. Добрович, влюбленный человек наполовину загипнотизирован (впрочем, как и ненавидящий). Выстраивая иерархию уровней суггестивной лингвистики, нужно иметь в виду, что сама по себе суггестия — явление неоднородное, хотя в любом случае речь идет о воздействии на подсознание (об изменении установок). С точки зрения латентного вербального воздействия базовыми будут одни уровни языка (например, фонологический), а с позиций открытой (прямой) суггестии, подтвержденной особой социально-психологической ролью суггестора изначальными следует признать другие уровни (например, становится значимым повелительное наклонение глагола). К тому же, поскольку анализ и синтез происходят в суггестивной текстовой продукции одновременно, следует говорить не о противопоставлении плана выражения и плана содержания, а о формосодержании — содержательной форме и формальном содержании — в их единстве. И наконец, описывая структуру суггестивной лингвистики, мы одновременно должны выяснить: какими реальными методами (средствами) изучения параметров суггестивных текстов располагает современное языковедение сегодня. 1. Нижний в иерархии с точки зрения языкознания и высший — с точки зрения латентного воздействия уровень — фонологический.Если суггестия — это творчество (в первую очередь вербальное), то для доказательства значимости именно фонологического Уровня обратимся к опыту выдающихся поэтов и писателей. Большое количество примеров такого рода анализа и самоанализа приводит А. Сухотин: «Большой стилист И. Бунин признавался, что, начиная писать, он должен „найти звук“. И „как скоро я его нашел, — пишет он далее, — все остальное дается само собой“. Уловить, поймать звук — это и значит отыскать ритм повествования, его звуковую структуру. В одной из статей Блок писал: „Поэт — сын гармонии, и ему дана некая роль в мировой культуре“. И далее поясняет: „Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной, безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих, внести эту гармонию во внешний мир“. Обратим внимание на то, как четко здесь выражена упорядочивающая работа поэта: уловить в шумах, идущих извне, нужные звучания и сложить из них прекрасное. Недаром же об А. Блоке кто-то из современников сказал, что он улавливает звуковые волны, опоясывающие Вселенную, и лепит из них стихи. Потому-то он и говорил: „И стихов я не выдумываю, я их слышу. Сначала музыку, потом стихи“». А вот описание авторской работы над текстом, приведенное А. Белым в статье «Как мы пишем»: «...Интонация, звук темы, рожденный тенденцией собирания материала и рождающий первый образ, зерно внешнего сюжета, — и есть для меня момент начала оформления в узком смысле; и этот звук предшествует, иногда задолго, работе моей за письменным столом. ...В звуке будущая тема подана мне издали; она обозрима в моменте; я сразу вижу и ее начало и ее конец. В звуке мне подана тема целого; и краски, и образы, и сюжет уже предрешены в звуке; в нем переживается не форма, не содержание, а формосодержание; из него первым содержанием вылупляется основной образ, как зерно. ...То, что я утверждаю о примате „звука“, — мой выношенный тридцатилетний опыт». В статье «О звуках стихотворного языка» Л. П. Якубинский классифицирует явления языка с точки зрения той цели, с какой говорящий пользуется своими языковыми представлениями в каждом данном случае: «Если говорящий пользуется ими с чисто практической целью общения, то мы имеем дело с системой практического языка (языкового мышления), в которой языковые представления (звуки, морфологические части и пр.) самостоятельной ценности не имеют и являются лишь средством общения. В практическом языковом мышлении внимание говорящего не сосредотачивается на звуках; звуки не всплывают в светлое поле сознания и не имеют самостоятельной ценности, служа лишь средством общения. Смысловая сторона слова (значение слова) играет в практическом языке большую роль, чем звуковая (что вполне понятно); поэтому различные подробности произведения доходят до сознания, главным образом, постольку, поскольку они служат для различения слов по значению. В языке стихотворном дело обстоит иначе; можно утверждать, что звуки речи в стихотворном языке всплывают в светлое поле сознания и что внимание сосредоточено на них; в этом отношении важны самонаблюдения поэтов, которые находят себе подтверждение в некоторых теоретических соображениях». Поскольку суггестивные тексты являются, по существу, прагматически маркированными текстами, можно предположить сосредоточение внимания их авторов на звуках речи, т. е. генетическую близость суггестивных текстов именно стихотворному мышлению. Отсюда ориентация нашего исследования, в том числе и на идеи и методы фоносемантики, которая «занимается тем, что в традиционных терминах называется „связью между звуком и значением“. Первая из известных истории языкознания попыток постановки вопроса о связи звука и значения была осуществлена в древнеиндийских Ведах. „Для древних индийцев была характерна убежденность в существовании изначальной связи между самой вещью и ее наименованием. Ученые того времени пытались решить вопрос, каким образом слово передает значение, и приходили к выводу, что в звуках слова заключена сущность вещи“ Выделяют 2 направления исследований мотивированности звучания значимых единиц языка: 1) изучение типов ассоциаций между звучанием и значением наматериале различных 2) выявление чисто психологических корреляций между звучанием и значением. „Особенно показательны результаты А. П. Журавлева, сочетавшего психолингвистические эксперименты с остроумным машинным моделированием“. А. П. Журавлевым разработан экспериментальный психометрический метод изучения символического значения звуков речи, измерена символика всех звуков русского языка, построена модель фонетического значения, разработаны программы автоматического анализа функционирования этого аспекта значения в поэтических кетах и вычисления фонетического значения слова. Проведены сопоставления оценок символики русских звуков носителями разных языков. По мнению А. П. Журавлева „носителем фонетического значения является звуко-буквенный психический образ, который формируется под воздействием звуков речи, но осознается и четко закрепляется лишь под влиянием буквы“. Такой подход в сочетании с возможностью автоматического анализа фоносемантического аспекта текстов позволяет создавать функционирующие модели суггестивных текстов, искать в них общие закономерности и в какой-то мере прогнозировать судьбу этих текстов. Любопытно, что Б. Ф. Поршнев, поднявший проблему связи суггестии и языка, отрицал какую-либо мотивированность акустико-артикуляционных признаков речевого знака свойствами предмета или значения, объясняя такое отношение тем, что „в глазах теоретического языкознания это лишь иллюзия, которая часто рассеивается при сравнении такого слова с его исходными, древними формами, а также с параллельными по смыслу словами в других языках. Новейшие количественные методы тоже не дают надежных результатов“ и делает вывод: „Звучание слов человеческой речи мотивировано тем, что оно не должно быть созвучно или причастно обозначаемым действиям, звукам, вещам“. А. П. Журавлев, а вместе с ним еще ряд авторов убедительно демонстрируют мотивированность языковых знаков, в том числе и с помощью новейших количественных методов. Так, Е. И. Красникова изучила возможность прогнозирования оценки квазислова в связном тексте и пришла к выводу, что „знание объективно измеренного символического значения звуков может выступать как прогнозирующий фактор, и его можно использовать для направленного воздействия на реципиента“. Г.Н.Иванова-Лукьянова, М.В.Панов, А.П.Журавлев посвятили свои исследования звуко-цветовым соответствиям. О. А. Шулепова провела сопоставительный анализ восприятия английских звуков англичанами и русскими, и пришла к выводу, что большинство английских звуков оценены англо- и русскоязычными информантами идентично. Все эти исследования убедительно показывают, что возможно использовать метод оценки фоносмантического значения слова и текста для описания параметров суггестивных текстов. Причем, хотя данные А. П. Журавлева касаются, в основном, русского языка, мы считаем возможным использовать этот метод для оценки текстов на санскрите, а также различных заклинаний и заговоров, включающих квазислова (иноязычных суггестивных текстов). Оправданием такого „расширения“ могут быть следующие факторы: Прусский язык принимается в нашем случае за точку отсчета, за неизменный фактор; анализируемые тексты на иностранных (квазииностранных) языках функционируют именно среди носителей русского языка, воспринимаясь как иноязычные по сравнению с эталонным (родным) языком; тексты анализируются в „звукобуквенном“ виде, что позволяет их сравнивать достаточно объективно. Особый интерес исследование фоносемантических параметров текста представляет в связи с задачами латентного (скрытого) воздействия. Так, по данным Б. М. Величковского „в экспериментах на селективное слушание установлено, что значение неосознаваемых испытуемым слов, предъявляемых по иррелевантному каналу, оказывает влияние на время повторения и семантическую интерпретацию релевантной информации. Подкрепленное ранее ударом электрического тока слово, которое испытуемый не замечает, вызывает отчетливую кожно-гальваническую реакцию, причем реакцию вызывают также слова, близкие по своему значению или фонематическому рисунку. Последнее обстоятельство существенно — согласно исследованиям А. Р. Лурия и О. С. Виноградовой по семантическому радикалу, в условиях осознания интеллектуально сохранные испытуемые реагируют лишь на семантическую, но не на фонематическую близость“. Интересно, что культурологи, этнографы, философы по-своему мифологизируют фонологический уровень языка. Так, культуролог Г. Гачев предлагает вдуматься глубже в тот факт, „что звуки языка — на выдохе лишь произноситься могут. На вдохе получиться могут лишь „А“ (вбирание, вхождение открытого пространства в нас) и „И“ — втекание дали в нашу щель. Но „О“, „У“ суть звуки глубины, которую мы собой производим, вносим в бытие, даруем; Е“ — перед, лицо, личность; „Ы“ — выдох, выход на мир, испускание духа, отверзание, распад „я“, его растекание в мировой Океан. Если бы звуки языка произносить на вдохе, тогда они были бы произведениями бытия в нас, нами, и носили бы его прямой свет, истину и идеи, мысли в себе. Но звуки и слова образуются, имея источником пещеру нашего тела, его очаг — огонь, сердце; очевидный и непосредственный импульс они имеют в нашем „я“, суть наш выпад в бытие наугад, в свет — исходя из теней. Язык — не вклад Космоса в нас, а наш вклад в Космос: ему мы предварительно создаем модель в черном ящике рта и через мотор языка, сей двигатель там внутреннего сгорания („бьется в тесной печурке огонь“), — испускаем волны, тревожа мир. Вот почему такое бытийственно-онтологическое значение придается в Ведах и Упанишадах звучанию песнопения: „вач“, „рич“, „удгитха“ — ибо это наш, от людей, вклад в Космос, сотворение новой стихии, отличной от присутствующих уже в природе четырех, — и она должна входить в мир и укладываться в нем соразмерно с остальными. И „Брахман“ есть и высшая духовная сущность, и молитва, и жрец, ее творящий. Словесная молитва есть метеор, ядро, что взвивается в космос, чтоб, например, по утрам выводить Солнце на небо; и культ создает плазму, в которой могут жить и питаться боги». Здесь и Личность, и Язык, и Космос в метафорическом гносеологическом прочтении... Говоря выше о номинации, мы уже приблизились к обозначению Адамовой тайны слов — загадки наименований: «Явление обнажения фонетической стороны слова также очень часто сопровождается эмоциональным переживанием звуков, на которых сосредоточено внимание. Джемс так описывает это явление: „Нередко, долго глядя на отдельное печатное слово и повторяя его про себя, мы замечаем, что это слово приняло совершенно несвойственный ему характер. Пусть читатель попробует наблюдать это явление на любом слове страницы. Он скоро станет удивляться тому, как он мог всю жизнь употреблять какое-то слово в таком-то значении... Взглянув на него с новой точки зрения, мы обнаружили в нем чисто фонетическую сторону. Раньше мы никогда не направляли на нее исключительного внимания, слово воспринималось нами сразу облеченным в свой смысл, а затем мы мгновенно переходили к другому слову фразы. Короче говоря, слово воспринималось нами в связи с группами ассоциаций, и в таком виде оно являлось для нас не простым комплексом звуков. Явление 'обнажения' слова очень распространено и, вероятно, каждый наблюдал его на самом деле“». Обобщая сказанное выше, отметим, что наше исследование будет направлено на измерение следующих фоносемантических параметров при помощи специальной компьютерной программы «Diatone», разработанной в лаборатории суггестивной лингвистики и социально-психологической терапии «Ведиум»: 1) отклонение частотности употребления тех или иных звуков от нормальной частотности. По мнению автора методики измерения фонетического значения А. П. Журавлева, «в системе анализа т исходный момент — сравнение количества различных звуков в кете с нормой — играет очень важную роль», так как «звуки встречаются в обычной речи с определенной частотностью. Носитель языка... интуитивно правильно представляет себе эти нормальные частотности звуков и букв, и читатель заранее „ожидает“ встретить в стихотворении каждый звук нормальное число раз. Если доля каких-либо звуков в тексте находится в пределах нормы, то эти звуки не несут специальной смысловой и экспрессивной нагрузки их символика остается скрытой. Заметное отклонение количества звуков от нормы резко повышает их информативность, соответствующая символика как бы вспыхивает в сознании (подсознании) читателя, окрашивая фонетическое значение всего текста. Например, если в стихотворении нагнетаются звуки, средние оценки которых по шкале „светлый-темный“ соответствуют признакам „очень светлый“, „светлый“, то эти признаки и будут характеризовать содержательность фонетической формы текста в целом. Эффект усилится, если в то же время „темных“ звуков в тексте будет заметно меньше нормы»; 2) фонетическое значение суггестивных текстов и заголовков текстов в случае анализа личных мифов; 3) звуко-цветовые соответствия; 4) звуковые повторы (повторы слогов), превышающие нормальную частотность употребления; 5) процентное соотношение количества высоких и низких звуков. 2. Просодический уровень.Просодия (от греч. prosodia— ударение, припев) — супрасегментный уровень языка, так как соотносится со всеми сегментными единицами (слог, слово, синтагма, фраза, сверхфазовое единство, текст). В языкознании часто выделяют следующие элементы просодии: речевая мелодия, ударение, временные и тембральные характеристики, ритм. С точки зрения истории второй сигнальной системы, а, следовательно, и суггестии, просодический уровень является таким же базовым, как и фонологический. Так, Б. Ф. Поршнев утверждает: «По первому разу интердикция могла быть отброшена просто избеганием прямого контакта — отселением, удалением. К числу первичных физиологических механизмов отбрасывания интердикции, судя по всему, следует отнести механизм персеверации (настаивания, многократного повторения). Он имеет довольно древние филогенетические корни в аппарате центральной нервной системы, наблюдается при некоторых нейродинамических состояниях у всех высших животных. Нельзя локализовать управление персеверацией у человека в каких-либо зонах коры головного мозга: как патологический симптом персеверация (непроизвольное „подражание себе“) наблюдается при поражениях верхних слоев коры разных отделов, в частности, в лобной доле. Но кажется вероятным, что на подступах к возникновению второй сигнальной системы роль персеверации могла быть существенной. Инертное, самовоспроизводящееся „настаивание на своем“ могло выгодно послужить как одной, так и противной стороне в отбрасывании или в утверждении и закреплении интердикции, следовательно, в генезе суггестии. На позднейших этапах это довольно элементарное нервное устройство просыпалось снова и снова, становясь опорой всюду, где требовалось повторять, упорно повторять,— в истории сознания, обобщения, ритуала, ритма». Отсюда следует, что главным для нашего исследования элементом просодического уровня следует признать ритм. Проблемы фоносемантики непосредственно связаны с проблемами ритма, а звуко-ритмическое воздействие считается основой любой религиозно-магической системы. Как утверждал еще Гумбольдт: «Благодаря ритмической и музыкальной форме, присущей звуку в его сочетаниях, язык усиливает наши впечатления от красоты в природе, еще и независимо от этих впечатлений воздействуя со своей стороны одной лишь мелодией речи на нашу душевную настроенность». Ритм «несет службу организующего начала». По мнению А. Белого, организующий принцип «дан бытием факторов в древней интонационной напевности; и он загадан в принципе осознания и обобществления метрических форм в диалектике их метаморфозы. Эта метаморфоза дана нам не где-то в тысячелетиях прошлого, а в нас самих: в филогенетическом принципе зарождения в нас звука строк, как эмбриона слагаемого размера, определяемого внутренней напевностью; ритм и есть в нас интонация, предшествующая отбору слов и строк; эту напевность всякий поэт в себе называет ритмом». Ритму посвящено множество исследований. Однако существующие сегодня методы изучения ритма отличаются прямолинейной точностью, рассматривают ритм как схему, не наполненную конкретным звуковым содержанием. Поэтому для описания суггестивных текстов такие методики непригодны (вспомним, что наше исследование направлено на изучение параметров творчества, отклоняющихся от среднестатистической нормы). Поэтому мы воспользуемся лишь несколькими нетрадиционными идеями, высказанными В. В. Налимовым: 1) многообразное употребление синонимических слов делает ритмичным даже прозаический текст. Синонимическое богатство прозаического текста, может быть, есть мера его ритмичности; 2) парадоксально построенные высказывания размывают смысл слов и тем придают тексту ритмичность. Любопытно, что такой оригинальный подход физика В. В. Налимова совершенно согласуется с историческим взглядом на развитие суггестии: «Полустершимся следом для демонстрации природы дипластии могли бы послужить метафоры, еще более — речевые обороты заклинаний. Дипластия — это неврологический, или психический, присущий только человеку феномен отождествления двух элементов, которые одновременно абсолютно исключают друг друга. На языке физиологии высшей нервной деятельности это затянутая, стабилизированная ситуация „сшибки“ двух противоположных нервных процессов. При „сшибке“ у животных они, после нервного срыва, обязательно снова разводятся, а здесь остаются как бы внутри суггестивного акта. Оба элемента тождественны в том отношении, что тождественно их совместное суггестивное действие, а их противоположность друг другу способствует их суггестивному действию. Дипластия — единственная адекватная форма суггестивного раздражителя центральной нервной системы: незачем внушать человеку то действие или представление, которое порождают его собственные ощущения и импульсы, но, мало того, чтобы временно парализовать последние, внушающий фактор должен лежать вне норм и механизмов первой сигнальной системы». Имея в виду правополушарную ориентацию суггестивных текстов, то есть ориентацию на образы, особенно интересен взгляд на Ритм текста как способ включения человека в чувственный (сенсорный) диалог с суггестором или миром: «...внутреннее удвоение, образ, развивается в антропогенезе лишь после появления внешнего удвоения — подражания, копирования, хотя бы самого эмбрионального. Поясню таким примером: „неотвязчивая мелодия“ преследует нас не просто как звуковой (сенсорный) след, но как наши усилия ее воспроизвести беззвучным напеванием, отстукиванием ритма, проигрыванием на инструменте, голосом. Вероятно, еще до i того, еще только слушая эту мелодию, мы ее почему-то связывали с неуловимостью, ускользанием — словом, с некоторой недоступностью. Чаще образ бывает не слуховым, а зрительным. Образ не образ, если нет всматривания в него, вслушивания — словом, рецепторной или двигательной нацеленности на него. Образ обычно неволен, непроизволен, нередко, навязчив, но все же он есть активное нащупывание двойника (копии) оригинала. Собственно, к физиологическому антагонизму возбуждения и торможения восходит всякое явление функциональной оппозиции в человеческой психике, включая речь (фонологическая и синтаксическая оппозиция). Но это не значит..., что человек в дипластии может сливать торможение и возбуждение,— он может сливать в дипластин два раздражителя противоположного знака. Эта спайка— явление особого рода: в глубоком прошлом бессмыслица внушала священный трепет или экстаз, с развитием же самой речи, как и мышления, бессмысленное провоцирует усилия осмысления. По афоризму Н. И. Жинкина, речь есть не что иное, как „осмысление бессмысленного“. Дипластия под углом зрения физиологических процессов — это эмоция, под углом зрения логики — это абсурд». Рассуждая о гармонии и ритме нужно также иметь в виду, что в действительности буквальной повторяемости (тождественности) ни событий, ни состояний нет и быть не может. Именно поэтому в статье «„Дом колдуньи“ и художественное восприятие» А. Добрович пишет о необходимости некоторой неправильности, отклонения от ритма, «рокового чуть-чуть», присущего творениям гениальных художников. По-видимому, здесь может идти речь о «золотой пропорции» — одной из «формул красоты», известных человечеству с древности. «Из многих пропорций, которыми издавна пользовался человек при создании гармонических произведений, существует одна, единственная и неповторимая, обладающая уникальными свойствами. Она отвечает такому делению целого на две части, при котором отношение большей части к меньшей равно отношению целого к большей части. Эту пропорцию называли по-разному — „золотой“, „божественной“, „золотым сечением“, „золотым числом“. ...Золотая пропорция является величиной иррациональной, т. е. несоизмеримой, нельзя представить в виде отношения двух целых чисел, она отвечает простому математическому выражению 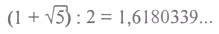 Характерно, что золотая пропорция отвечает делению целого а две неравные части, следовательно, она отвечает асимметрии. Почему же она так привлекательна, часто более привлекательна, чем симметричные пропорции? Очевидно, эта пропорция обладает каким-то особым свойством. Целое можно поделить на бесконечное множество неравных частей, но только одно из таких сечений отвечает золотой пропорции». Золотая пропорция обнаружена во всех областях художественного творчества. Наиболее обширное исследование проявлений золотого сечения в музыке было предпринято Л. Сабанеевым. Им было изучено 2000 произведений различных композиторов. «Характерно, отмечает Л. Сабанеев, что наиболее часто золотое сечение обнаруживается в произведениях высокохудожественных, принадлежащих гениальным авторам». «Очевидно, и поэзия прошла тот же путь эволюции в направлении к достижению гармонии, что и архитектура — от простейших гармонических построений (квадрат и прямоугольник 1:2 — в архитектуре, четверостишия — в поэзии) до вершин гармонического Олимпа, где царит золотая пропорция». Н. А. Васютинский отмечает, что «совпадение кульминационных моментов в произведениях прозы у А. С. Пушкина с золотой пропорцией удивительно близкое, в пределах 1-3 строк. Чувство гармонии у него было развито необыкновенно, что объективно подтверждает гениальность великого поэта и писателя». Множество подобных примеров наводит на размышление, не является ли частота проявлений золотой пропорции одним из объективных критериев оценки гениальности произведений и их авторов? Тем более, что информация, которая содержится в точке золотого сечения, влияет непосредственно на подсознание, минуя сознание. К ритмическим характеристикам текстов отнесем также измеренную для каждого текста длину слова в слогах, которая, по мнению И. Мистрика «обратно пропорциональна ритмичности высказывания». Слова разговорного диалогического стиля характеризуются в среднем небольшой длиной в слогах. Тексты, в которых употребляются абстрактные выражения или исключительные слова, имеют более высокие среднеарифметические длины в слогах. 3. Лексико-стилистический уровень.Следующим этапом описания параметров суггестивных текстов является измерение различных показателей (индексов), характеризующих стилистические особенности текстов при помощи математико-статистических методов. На основании следующих данных: N — число лексических единиц в тексте вообще; L — число слов, которые встретились в тексте хотя бы один раз; Lfi — слова, которые встретились в тексте только один раз; Lfi< — число слов, которые характеризуются в тексте частотой большей, чем 1; fr1 — максимальная частотность слова — по специальным формулам могут быть рассчитаны следующие индексы (показатели): 1) С — индекс дистрибуции (чем больше С, тем богаче словарь и более симметрична дистрибуция слов): 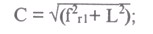 2) Ii — индекс итерации (индекс повторения слов в замкнутом тексте) Ii = N : L; 3) Ie — показатель исключительности (специфичности) лексики. В поэзии бывает до 50% «исключительных» слов, в художественной прозе их намного меньше: Ic = 20 • Lf1 : N 4) Р — индекс предсказуемости. Чем ниже степень предсказуемости, тем привлекательнее текст: Р = 100 — (Lf1 • 100) : N 5)Ig — индекс плотности текста зависит от числа повторяющихся слов в тексте и длины текста. Он чувствителен главным образом к тематическим словам и совершенно независим от случайных слов. Чем богаче тематика, тем выше Ig, чем однороднее в тематическом отношении текст, тем Ig ниже. В научных монографических сочинениях он опускается ниже 1, в газетах, наоборот, поднимается выше 3; 6)Iext — объем экстенсивности словаря. Является показателем широты лексики, разнообразия выражений и лексической насыщенности текста; 7) If— длина интервала средней части повторяющихся слов (ин-с стереотипности). IF является высоким — как положительный стилистический элемент — там, где имеет значение не форма, а содержание высказывания, то есть в тех случаях, когда предполагается беглое чтение или когда высказывание является спонтанным, нестилизованным. Высокую степень стереотипности, а, следовательно, высокий If имеет профессионально-разговорная речь, низок If в художественных и вообще беллетризованных текстах. Описывая эти индексы, Й. Мистрик отмечает, что «прямолинейность точных данных более полезна при стилистическом анализе текстов, в которых стилистическая ценность языкового элемента имеет более четкие и однозначные границы. Поэтому для анализа очень большое значение имеет подбор репрезентативного комплекса, его отношение к исходному комплексу и общая точка зрения на субъективные стилеобразующие факторы». В нашем случае, учитывая задачу сравнения суггестивных текстов с другими типами текстов и определение их места «прямолинейность точных данных» вполне уместна и даже необходима, поскольку речь идет об описании, прежде всего, универсальных, наиболее общих параметров этих текстов. Индексы Й. Мистрика позволяют сравнить между собой различные суггестивные тексты, определить место каждого из них в системе априорно суггестивного языка и, наконец, отнести экспериментально полученные суггестивные тексты к какому-либо разряду (художественные — нехудожественные и пр.). 4. Лексико-грамматический уровень.Следующим этапом анализа является определение соотношения различных частей речи в суггестивных текстах и проверка некоторых гипотез, в частности, гипотезы Б. Ф. Поршнева об особой роли глагола в истории суггестии. Многие лингвисты предполагали, что глаголы древнее и первичнее, чем существительные. Эту глагольную фазу Б. Ф. Поршнев предлагает представить себе, как всего лишь неодолимо запрещающую действие или неодолимо побуждающую к действию. В таком случае древнейшей функцией глагола должна считаться повелительная. Эта гипотеза проверяется несколько неожиданным образом: демонстрацией, что повелительная функция может быть осуществлена не только повелительным наклонением (например, начинайте!), но и инфинитивом (начинать!), и разными временами — прошедшим (начали!), настоящим (начинаем!) и будущим (начнем!), даже отглагольным существительным (начало!). Определение процентного соотношения слов, представляющих разные части речи, позволяет подсчитать и такие показатели, как коэффициент глагольности, коэффициент связности, используемые при проведении контент-анализа. 5. Морфо-синтаксический уровень.Синтаксический анализ суггестивных текстов будет производиться только в отношении некоторых групп текстов, прежде всего, в силу отсутствия надежных критериев членения спонтанных текстов. Тем более, что в уже упоминавшейся работе Р. Г. Мшвидобадзе были получены убедительные результаты передачи индексальной информации (информации о положительных и отрицательных установках индивида) через синтаксические параметры: 1) при положительной установке длина предложений больше, чем при отрицательной установке; 2) в случае положительной установки глубина предложений больше, чем при отрицательной установке; 3) в случае положительной установки количество сложных предложений больше, чем при отрицательной установке, во время которой превалируют простые предложения. При сопоставлении данных экспериментов с текстами на русском и грузинском языках, Р. Г. Мшвидобадзе делает вывод: «Следует думать, что языки обладают как универсальными, так и специфическими ресурсами для выражения установок через формальные параметры». Ниже будет показано, что часть суггестивных текстов (по преимуществу художественных, мифологичных) нечувствительна к разделению на отдельные предложения, al точными критериями членения спонтанной речи мы пока не располагаем. Таким образом, мы выделили 5 уровней суггестивно-лингвистического анализа: фонологический, просодический, лексико-стилистический, лексико-грамматический, морфо-синтаксический и предполагаем необходимость измерения следующих параметров суггестивных текстов: 1) отклонение частотности употребления отдельных звуков от нормальной частотности; 2) фонетическое значение текстов; 3) звуко-цветовые соответствия; 4) звуковые повторы, превышающие нормальную частотность; 5) соотношение количества высоких и низких звуков (в %%); 6) длина слова в слогах; 7) соответствие «золотого сечения» кульминации текста; 8) лексико-стилистические показатели; 9) грамматический состав текстов. По отношению к различным группам текстов этот список может быть сужен или расширен: так, для мантр и заклинаний информация о лексико-стилистических и грамматических параметрах является избыточной вследствие неосознанности носителями русского языка, а заговоры могут быть охарактеризованы по типу заговорной формулы и пр. При анализе текстов личных мифов могут быть использованы формулы контент-анализа (коэффициент глагольности и пр.). Необходимость изучения вербальной суггестии можно объяснить существованием настоятельного социального заказа, связанного с тем, что общество нуждается в немедленной терапии. Выделяют несколько моделей терапии, охватывающих, в сущности, все области профессиональной коммуникации: медицинскую, психологическую, философскую, социальную. Поэтому одной из задач суггестивной лингвистики можно считать разработку специальных методов лингвистической терапии для профессиональных коммуникаторов различных профилей. Отсюда следует особое положение, занимаемое суггестивной лингвистикой среди лингвистических наук вообще в силу того, что это область: —динамическая; —междисциплинарная по своим методам (результат интеграционных процессов языкознания) — связана с психологией, социологией, психотерапией, нейролингвистикой, педагогикой, математикой, информатикой, теорией искусств и пр.; —экспериментальная (законы носят статистико-вероятностный характер); — прикладная; — ориентирована на изучение бессознательных процессов психически сохранных людей. Суггестивную лингвистику как предметную область можно представить как систему, объединяющую в себе ряд взаимопроникающих и взаимовлияющих уровней, описать и изучить которую можно только выйдя за рамки отдельно взятой научной теории, используя междисциплинарный подход. Если проанализировать реальный процесс функционирования суггестивных текстов в ситуации доминирования определенной культурологической среды, становится очевидным, что невозможно выявить лингвистические особенности названных текстов без обращения к мифам как вторичной семиотической системе, способу связи действительности (языка-объекта, первичной семиотической системы) и объяснения этой действительности (метаязыка, вторичной семиотической системы). Всего можно выделить 4 основных типа мифа, влияющих на эффективность интересующей нас в первую очередь медицинской модели терапии: — языческий, — христианский (славянский религиозный), — заимствованный (дзен-буддистский, кришнаитский и пр.), — научный (медицинский). Каждая мифологическая система имеет свои особые разновидности текстов, позволяющих не только подробно описать данную систему, но и произвести феноменологический анализ текстов (предсказать их эффективность и судьбу по форме). Так, языческая мифология непосредственно связана с фольклорной традицией народа: заговоры, наговоры, причеты, заклинания и пр. Христианская мифология имеет богатый арсенал молитв (как универсальных, так и ситуационных), проповедей. Заимствованный миф представлен в русскоязычной среде преимущественно мантрами и заклинаниями. Медицинский миф логично изучать на материале формул гипноза и аутотренинга, а также текстов психотерапевтического воздействия. Особняком стоит исследование текстов личных мифов, полученных при использовании метода ВМЛ. Уникальность этих текстов в том, что одновременно анализируются приемы и методы лингвистики суггестанта и лингвистики суггестора, потому что эти тексты созданы в особом измененном состоянии творческого транса и являются в одинаковой степени ауто- и гетеросуггестивными. Стратегия изучения суггестивных текстов, ориентированная на все более глубокое погружение в направлении наименее осознаваемых уровней языка, может быть направлена на изучение следующих параметров: 1. Мифологические и экстралингвистические характеристики культурологического, этнографического и иного характера. 2. Характеристики текста. 3. Синтаксические характеристики. 4 Лексико-стилистические и словообразовательные характеристики- 5 Грамматические характеристики. 6 Просодические (ритмические) характеристики. 7 Фоносемантические параметры. Можно еще более усложнить структуру суггестивной лингвистики и увеличить количество анализируемых параметров, однако перед нами стоят задачи адекватного и в то же время лаконичного описания суггестивных текстов, автоматизации этого процесса (коль скоро речь идет о неосознаваемых латентных признаках) и обучения языку внушения. Ключ должен легко открывать дверь... Глава 4. «Слово мое крепко»... (суггестивный текст как фактор изменения установок личности и общества)
Заветные слова звучат в «доме колдуньи» — очаровывают и лечат, присушивают и убивают. Глобальные социальные эксперименты, проводимые в разные времена и в различных общественных системах, суть языковые эксперименты. Подтверждение тому мы находим в работах, посвященных «языкам» тех или иных обществ. Так, В. Клемперер в своей работе «Язык третьего Рейха. Записки филолога» доказывает, что нужна была специальная языковая система для того, чтобы появилась такое социальное явление как фашизм. Универсальные суггестивные тексты — это эксперимент, проводимый МС с бессознательным отдельных личностей на протяжении длительных промежутков времени и в больших ареалах, поэтому особенно интересный для лингвиста, пытающегося постичь тайну языковой суггестии. К универсальным суггестивным текстам мы отнесли тексты заговоров, молитв, мантр, заклинаний (автотексты МС), а также формулы гипноза и аутотренинга (аллотексты МС). Граница между этими группами весьма условна, поскольку имеются, например, молитвы, созданные конкретным историческим лицом, а затем освоенные МС (ср.: молитвы святого Макария Великого, святого Антиоха, святого Иоанна Златоуста — по существу, аллотексты), напротив, формулы гипноза, приписываемые себе тем или иным автором, оказываются, на самом деле, древними формулами внушения или самовнушения. Поэтому целесообразно объединить эти тексты в одну группу и, на основании их изучения, описать латентные универсальные языковые механизмы, обусловливающие успешность функционирования указанных текстов в социуме. Это тем более ценный опыт, что он не осознается даже людьми, применяющими данные концентрированные магические тексты, для которых эффективность этих текстов несомненна. Прежде чем приступить к рассмотрению жанровых разновидностей универсальных текстов, необходимо сделать два замечания общего характера: 1) Универсальность текста обратно пропорциональна сложности его символики и формы: «Чем сложнее ритуал (много символов, сложные формы), тем более частной, локальной и социально структурированной предстает его миссия; чем ритуал проще (мало символов, простые формы), тем более универсальна его миссия». 2) По П. А. Флоренскому, «слово есть метод концентрации», поэтому «магически мощное слово не требует, по крайней мере, на низких ступенях магии, непременно индивидуально-личного напряжения воли, или даже ясного сознания его смысла. Оно само концентрирует энергию духа». Эта мысль высказывалась неоднократно, в том числе В. Гумбольдтом, но Флоренский связывает концентрацию энергии духа в слове именно с проблемой магичности слова и выдвигает следующую (важную для нашего исследования) гипотезу: «Знахарка, шепчущая заговоры или наговоры, точный смысл которых она не понимает, или священнослужитель, произносящий молитвы, в которых иное и самому ему не ясно, вовсе не такие нелепые явления, как это кажется сперва; раз заговор произносится, тем самым высказывается, тем самым устанавливается и наличность соответствующей интенции,— намерения произнести их. А этим — контакт слова с личностью установлен, и главное дело сделано: остальное пойдет уже само собою, в силу того, что самое слово уже есть живой организм, имеющий свою структуру и свои энергии». Следовательно, можно вслед за Флоренским предположить, что: а) универсальные механизмы вербальной суггестии отрабатывались веками и закреплялись в соответствующих жанрах текстов; б) эти механизмы являются латентными для лиц, использующих Данные тексты в своей практике; в) важно установить контакт слова с личностью — иными словами, суггестивная роль, создаваемая при помощи вербальных средств, должна гармонично соотноситься с личностью, использующей конкретный суггестивный текст (в данном случае речь идет только о человеке, произносящем текст). Перейдем к рассмотрению жанровых разновидностей универсальных суггестивных текстов. Заговоры — тексты языческой мифологии.Заговоры — наиболее изученная филологами группа универсальных суггестивных текстов. Заговорам посвящены преимущественно исследования фольклористов, в которых даются классификации заговоров по разным основаниям, предлагается анализ заговорной формулы. Естественно, исследователей интересуют в первую очередь семантические особенности заговоров. Такой подход правомерен, если рассматривать заговоры как жанр фольклора, но явно недостаточен для изучения суггестивных особенностей указанных текстов. По данным С. А. Токарева, в этнографической литературе описано огромное множество магических обрядов, известных восточнославянским народам, которые «как правило, сопровождаются словесными формулами — заговорами. Последние имеют очень существенное значение, порой даже основное. По-видимому, есть заговоры, которые считались действительными сами по себе, без всякого обряда („вербальная магия“). Такое выделение ее в особый тип оправдывается тем, что, во-первых, очень многие заговоры записаны исследователями без всякого упоминания о сопровождающих их (или сопровождаемыми ими) обрядах, которых, может быть, и действительно нет; во-вторых, тем, что лечебные заговоры, видимо, имели свои собственные корни в лечебной реальной практике. „Вера в силу слова“ (выражение Ветухова), на которой основаны все заговоры, сама ведь коренится в действительных человеческих отношениях. Отдача приказания при помощи слов, действие внушением, психическое воздействие врача (или знахаря) на больного, несомненно, влияющее на ход болезни — все это не могло не порождать веры в силу человеческого слова. Заговор был необходимой принадлежностью быта Руси XVII и XVIII столетий: „Исторические показания свидетельствуют о том, что, с одной стороны, за заговором признавали спасительную силу, избавляющую от болезни, неудачи и беды, и прибегали к нему в различных жизненных случаях; с другой стороны, заговор считали опасным, „еретическим“ орудием, так как он мог погубить человека, и поэтому настаивали на уничтожении его в лице его знающих. Но какой бы ни был заговор, его заучивали и употребляли, как во спасение, так и на погибель. Таким образом, и положительная и отрицательная сторона заговора вызывали желание обладать им; желание это приводили в исполнение, вследствие чего заговор был хорошо знаком всем слоям общества; все сословия признавали его значение и не относились к нему безразлично“. По характеру мифологии мы отнесли заговоры к языческому типу. В силу специфики религиозных верований России можно считать языческий тип одним из наиболее распространенных, а веру в заговоры как средство воздействия — актуальной и до сего дня. Воспользуемся данными анализа 280 заговоров, общим объемом 16 160 слов. Для оценки фонетического значения тексты обрабатывались по программе „Diatone“, составленной по данным А. П. Журавлева, полученных экспериментальным путем с допустимым коэффициентом надежности R > 0.85. Исходные положения и общая формулировка процедуры анализа подробно изложены А. П. Журавлевым в книге „Фонетическое значение“. В таблице 1 приведены данные о фонетическом значении выборочной совокупности заговоров, которые получены в итоге обсчета текста-конгломерата, произведенного слиянием всех текстов заговоров выборочной совокупности. Результаты автоматического анализа фонетического значения текстов заговоров Таблица 1 Признаки текста-конгломерата (в показателях) 1. яркий 77.12 2. возвышенный 62.02 3. радостный 54.05 Как видно из таблицы, ведущий фоносемантический признак заговоров — „яркий“. В таблице 2 приведен набор 10 наиболее частотных „звукобукв“, полученный при обсчете текстов заговоров. Преобладают „высокие“, „хорошие“ И, Ю; а также „низкий“, „плохой“ Ы. Из группы согласных выделяется, прежде всего, сонорный диезный М', „нейтральный“ по фактору оценки, очень мягкий и медлительный. На втором среди согласных месте — Б — звонкий, простой, краткий, „хороший“; далее: К' — глухой, диезный, краткий, „плохой“; Р — звонкий, простой, длительный, нейтральный»; Ц — глухой, краткий, «плохой». Как видим, среди гласных преобладают «хорошие» по фактору оценки звукобуквы, среди согласных — «нейтральные» и «плохие». Наиболее частотные «звукобуквы» текстов 280 заговоров Таблица 2 Текст-конгломерат (в показателях частотности) 1 И (24.41) 2 М' (21.03) 3 Б (21.01) 4 К' (15.22) 5 F (14.15) 6 Ы (12.26) 7 Ю (11.06) 8 Р (10.97) 9 Ц (10.91) 10 С (9.38) Если воспользоваться данными психолингвистов о звуко-цветовых соответствиях, то преобладание гласного И среди гласных указывает на синий или голубой цвет, Ы — черный, а «Б часто называют сиреневым». Интересно, что В. М. Бехтерев, описывая результаты опытов относительно «времени и условий, определяющих выбор личных движений», отмечал, что «из цветов чаще всего выбирался голубой, за ним следует красный и фиолетовый, за ним — желтый, зеленый и оранжевый». Отдельные слоги в текстах, состоящие из звуков, резко превышающих нормальную частотность (ми, от, ки, бы, ри, ро, во, со, го, по, ре, ни, бо, ло, ли, не) можно трактовать как звуковые повторы. Регулярное повторение всех выделенных повторов может обеспечить текстам заговоров следующие признаки: «стремительный» (12.33), «бодрый» (5.19), «устрашающий» (3.98). Так как речь шла об анализе большой группы заговоров, различных по своим установочным задачам, целесообразно было проанализировать некоторые тематические группы заговоров и проследить, нет ли в них особых фоносемантических закономерностей. Сначала сравнивались две большие группы заговоров: «на кровь», т. е. от кровотечения (19 текстов, 665 слов) и «на зубы» (20 текстов, 910 слов). Именно эти группы упоминал В. Мессинг, приводя пример необъяснимой с точки зрения науки силы слова. Сравним наиболее частотные фоносемантические параметры этих двух групп со средними параметрами всего массива заговоров: Результаты автоматического анализа фонетического значения заговоров: общие, «на кровь», «на зубы» (в абс. числах) Таблица 3 № п/п Общие (280) «На кровь» (19) «На зубы» (20) 1 яркий (82) нежный (7) яркий (10) 2 темный (76) стремительный, медлительный, тихий, нежный, суровый, сильный (6) устрашающий (6) 3 нежный (69) минорный (4) суровый, темный(5) Как видно из Таблицы 3, разброс признаков в отдельных текстах достаточно большой, однозначные соответствия для той и другой группы определить сложно, поэтому можно более детально сравнить наиболее частотные звуки указанных групп заговоров (таблица 4): Сравнительные результаты измерения наиболее частотных «звукобукв» в текстах заговоров «на кровь» и «на зубы» (в абс. числах и % к общему количеству текстов) Таблица 4 Сравнение результатов таблицы показывает, что: 1) наряду с другими, наиболее частотными являются звукобуквы, входящие в состав ключевых слов тематических заговоров: 3, У, Б, Ы в заговорах «на зубы» и К, Р, В' — в заговорах «на кровь». Такое явление соответствует данным Т. Я. Елизаренковой, обнаружившей при описании лингвистических особенностей «Ригведы» (РВ), что «вообще вся формальная структура гимнов основана на повторах: тождественных или фонетически близких звуков, падежных форм, балансированных синтаксических конструкций, — черта свойственная произведению устного творчества вообще, — и звукопись представляет собой одно из частных проявлений этой общей тенденции». Эта же идея изначально высказывалась Ф. де Соссюром в его посмертно изданных «Анаграммах» и в книге Старобиньского «Слова под словами». Метод «анаграмм» был выявлен де Соссюром в целом ряде древних индоевропейских поэтических традиций (ведийской, ранней латинской, древнегерманской). По де Соссюру, гимн РВ, посвященный восхвалению какого-либо бога, строится вокруг ключевого слова — имени бога. Поэт может играть падежами этого имени, располагая их определенным образом и употребляя в каждом стихе, а может, не называя прямо имени бога и расчленив его на отдельные звуки или слоги, повторять их в соседних словах, создавая тем самым звуковые намеки на него. Развивая гипотезу де Соссюра в свете современных взглядов на древнюю индоевропейскую культовую поэзию, трактуемую в духе гипотезы Мосса-Бенвениса и идей Р. О. Якобсона относительно грамматики поэзии, Т. Я. Елизаренкова предполагает: «Исходя из представления о том, что хвалебный гимн божеству обусловливается ситуацией обмена между адептом и божеством, следует поставить вопрос, какую информацию может нести семантизированная звуковая ткань гимна. Выясняется, что она может содержать информацию об имени божества (адресата), об имени риши — автора гимна (андресанта) или об основной теме гимна (сообщении), если та, в свою очередь, не совпадает с восхвалением божества. Иными словами, с помощью звукозаписи в гимнах РВ сообщаются сведения обо всех трех конститутивных элементах речевого акта». В данном случае мы находим информацию об основной теме заговора. 2) Набор других звукобукв существенно от средних данных не отличается. 3) Специфическим является превышение в заговорах «на кровь» нормальной частотности звукобукв А («красной») и Ф' (в большинстве заговоров, напротив, мы наблюдаем пониженное относительно нормальной частотности количество этих звуков). Заговоры традиционно делятся МС на две большие группы: заговоры (лечебные, благотворные заклинания) и наговоры (вредоносные заклинания). «„Наговаривали“ на самые различные вещи — на хлеб, соль, воду, воск, коренья и пр., т. е. на вещества, сами по себе в большинстве безвредные; следовательно, колдовская сила тут уже в основном приписывалась наговору». С А. Токарев отмечает также, что «наговоры», сопровождающие обряды, по форме обычно отличаются от лечебных заговоров: «В них нередко вместо упоминания об Иисусе Христе, богородице и святых, упоминается нечистая сила». Можно предположить также, что принципиальное противопоставление двух групп текстов массовым сознанием должно было закрепиться не только на уровне содержания (мифа), но и в других (в том числе латентных фоносемантических) параметрах указанных текстов. Результаты автоматического анализа фонетического значения заговоров и наговоров показывают, что доминирующим признаком всех указанных текстов является «яркий», следовательно, на уровне общих признаков принципиальных различий между названными группами текстов не существует. Более заметные различия наблюдаются в составе наиболее частотных «звукобукв». В наговорах и отсушках появляются звукобуквы Ж, Ш, Щ, С, С «плохие» по фактору оценки и не превышающие нормальную частотность в других группах заговоров. Всего в заговорах в среднем 53.13% высоких звуков, а средняя длина слова в слогах — 2.06. Анализ индексов лексических единиц в текстах заговоров показывает следующее: 1) Индекс дистрибуции лексических единиц С довольно высок, что свидетельствует о богатстве словаря и симметричной дистрибуции слов. 2) Индекс итерации Ii (повторения слова в замкнутом пространстве) = 1.42. 3) Индексы исключительности и предсказуемости свидетельствуют о достаточно высоком уровне художественности, обработанности текста. Исключительные слова составляют более половины (11,84) (по утверждению Й. Мистрика «в поэзии бывает до 50% „исключительных“ слов, в художественной прозе их намного меньше». Высокий уровень исключительных слов естественно предполагает достаточно низкий коэффициент предсказуемости (40.32). 4) Индекс плотности лексики (3.43) указывает на тематическое богатство текстов. 5) Iext = 14.04, что свидетельствует о лексической насыщенности текстов заговоров. 6) Индекс стереотипности (длины интервала) равен 1.54, что характерно для художественных и беллетризованных текстов, в отличие от профессионально-разговорной речи. Грамматический состав заговоров имеет следующие особенности: 1) Значительное преобладание существительных — более трети (33.65%). 2) Меньшее, по сравнению с другими группами универсальных суггестивных текстов, количество местоимений (10.36%), и большее — предлогов. Первое можно объяснить высокой степенью обезличенности (универсальности) заговоров, а второе — особенностями содержания (очень часто описывается длинный путь продвижения к какому-либо объекту или воздействию на какой-либо объект, что и предполагает использование специальных маркеров — предлогов). Синтаксис заговоров, соответствующий языческой мифологии подробно описан фольклористами: «Для синтаксиса фольклорной семантики снимается привычное противопоставление текста и предложения. Одна и та же смысловая предикативная основа может быть развернута в текст, и в незначительный фрагмент текста, и в отдельное предложение. Фольклор функционирует в смысловых формах, синтаксически безразличных к объему. Это отвлеченные образцы, структурные схемы, лексически заполненные лишь частично, повторяющиеся от текста к тексту, от жанра к жанру. Текст, его смысловую основу, условную, недифференцированную в жанровом отношении и объеме, можно принять за такую центральную синтаксическую единицу фольклорной семантики. ...Частные модальные и интенциональные значения раскрываются в парадигмах текстов. Тексты с внутренней интенцией воздействия, направленного от агента вовне, могут быть заклинательными (прямое воздействие) либо гадательными (опосредованное воздействие)». Не вдаваясь в подробный анализ всех тематических групп заговоров, отметим, что заговоры с менее сложной коммуникативной задачей характеризуются 1 типом заговорной формулы («на кровь», «на зубы») (S>O), а более сложные 2 типом («от всех болезней», «защитные»: от крови, от сглаза, от уроков, от напасти) (S>М>О) (подробнее о структуре заговорной формулы см.: Черепанова О. А., 1979, с. 6). «Золотое сечение» в большинстве заговоров совпадает с кульминацией текста и делит эти тексты на две неравные части с различной фоносемантикой. Так, заговор «на кровь» (Шла баба по ричке, вела быка на нитке нитка порвалась, кровь унеслась. Стану я, раб божий имярек, на пашень, кровь моя не капнет • стану на кирпич, кровь запекись. Закрепитеся, мои слова, двенадцатью ключами, крепкими замками. Аминь!), имеющий общие признаки «тихий» (11.52), «нежный» (6.89), «стремительный» (4.68), делится при помощи золотого сечения на 2 части, характеризующиеся следующими признаками: I. «стремительный» (4.94); «нежный» (3.93), «суровый» (3.80) (46.32% высоких звуков); II. «тихий» (19.57), «нежный» (6.26), «минорный» (3.42) —53.16% высоких звуков. Образно говоря, кровь после произнесения заговора должна «стремительно затихнуть» — динамика от ведущего признака I части «стремительный» к ведущему признакуII части —«тихий». I часть более жесткая (доминирующие звуки К, Р, В' — анаграмма), характерный для мантр «красный» А. ВоII части появляются свойственный славянским суггестивным текстам высокочастотный «синий» И, а также М' (ср.: аминь). Заговор «на сон»
отражает ту же закономерность. Его общие фоносемантические признаки «тихий» (14.23), «минорный» (7.46), «темный» (7.45), а составные части характеризуются признаками: I. «тихий» (17.62), «минорный» (10.62), «темный» (8.89); II. «темный» (4.79), «печальный» (2.32), «зловещий» (2.24). Иными словами, идея «темноты» во II части усиливается, что соответствует прагматической заданности заговора: как можно быстрее усыпить ребенка. Молитвы — тексты религиозной мифологииСейчас уже общепринят факт, что религия и суггестия тесно взаимосвязаны. Об этой связи пишут многие психотерапевты и находят в религиозном опыте много поучительноuг и полезного. Именно под влиянием научного прогресса возрос интерес к молитве, появились статьи, связывающие молитву с проблемами биоэнергетики, телепатической связи и даже с пришельцами из Космоса. Но даже если оставить в стороне проблемы парапсихологии и сосредоточиться на описании лингвистических механизмов молитвы, становится ясно, что интуитивных догадок и вопросов пока еще гораздо больше, чем ответов. Так, болгарский психотерапевт Н. Петров отмечает: «Ряд обрядов в современных религиях ведет свое начало от первобытной магии, при помощи которой древние люди пытались „войти в контакт“ с силами природы. Типичным примером этого могут служить таинства христианской церкви (католической и православной). Полумрак, огоньки свечей, спонтанная концентрация сознания на блестящих культовых предметах, расслабляющее воздействие музыки и повторение одних и тех же слов, запах ладана и т. п. многократно повышает внушаемость верующих. Характерной особенностью почти всех религий является использование определенных жестов, особой манеры проговаривания, употребление „священных слов“ мягкого и расслабляющего звучания, таких, например, как аминь, амито, амида и т. д. Все это приводит к созданию тесного эмоционального контакта между священником и верующими». В. Мессинг напрямую связывал религиозное воздействие с гипнозом. Описывая феномен молитвы, Мессинг писал: «Привести себя в гипнотическое состояние — к этому направлены, по существу, принятые во многих религиях многократные повторения простой и краткой молитвы, вроде „Святый боже, помилуй мя“. Когда эта фраза повторяется сотни и тысячи раз, наступает гипнотическое состояние. Прибавим к этому бесчисленные поклоны, отбиваемые перед иконами». Интересные мысли высказывает Л. Н. Романов в книге «Музыкальное искусство и православие»: «Понимая универсальность слова, организаторы христианских обрядов с самого начала стремились к тому, чтобы в богослужении преобладали пророческие наставления, дающие назидание „не только сердцу, но и уму“». И далее: «Символ для верующего должен быть легко узнаваемым. Именно поэтому церковь всегда боролась за устойчивую знаковую систему, за устоявшиеся в богослужебной практике символы. Стремилась стабилизировать свою семантику, отсюда и строгое соблюдение канона». Такой подход к слову выработал и особое понятие ритма, названного «словесным»: «Слово, текст, мысль, несущая в себе христианское вероучение, — вот основной критерий при отборе музыкальных форм, присутствующих в богослужении». Нами проанализировано 35 основных молитв, длиной в 2 271 слово, соответствующих христианскому типу мифологии. Основной фоносемантический признак молитв — «светлый» (см. таблицу 5). Результаты автоматического анализа фонетического значения 35 молитв Таблица 5 Ранг Наиболее частотные признаки текста-конгломерата (в показателях) I светлый 45.87 II нежный 33.87 III яркий 27.16 Как видно из таблиц 2 и 6, состав наиболее частотных звуков молитв отличается от состава звуков заговоров: Наиболее частотные «звукобуквы» 35 молитв по результатам автоматического анализа (в показателях частотности) Таблица 6 Ранг Текст-конгломерат 1 И 23.10 2 Г 10.88 3 Щ 10.30 4 М' 9.87 5 С 9.73 6 Я 7.87 7 В' 7.65 8 X 7.62 9 В 6.69 10 Ж 5.92 1) появляются звонкий простой краткий Г, глухой диезный длительный Щ, звонкий простой длительный Ж; глухой простой длительный X; 2) символика звуков: а) гласные И, Я, Б оцениваются информантами как «хорошие»; б) наиболее частотные согласные, как и в случае заговоров, оцениваются как «нейтральные» (Г, М', В', В), либо как «плохие» (Щ, С, Х, Ж, П). В состав наиболее частотных звуковых повторов вошли звукобуквы, не попавшие в состав наиболее частотных, подтверждающие ту же закономерность: О — «хороший», Н', Р' — «нейтральные» и только согласный Л' оценивается как «хороший». Употребление звуковых повторов, состоящих из звуков, резко превышающих нормальную частотность (ми, во, ис, ли, го, и др.), в комплексе, должно обеспечить текстам молитв следующие признаки: «светлый» (11.15), «радостный» (10.95), «яркий» (9.87), что совпадает с данными таблицы 5. Преимущественное употребление гласного И обеспечивает наличие голубого (синего) цвета, вкрапления О (желтого), Я (красного) и Ю (сиреневого) дополняют цветовую гамму. Преобладание «голубого» И, как в заговорах, так и в молитвах едва ли является случайным: христианский миф пришел на смену языческому, что и отразилось на характере сакральных текстов. Эту общность еще в 1851 году отмечал А. Н.Афанасьев, утверждая: «Из рассмотрения слов, синонимичных ведуну и ведьме, находим, что в словах этих лежат понятия сродственные, которые в язычестве имели смысл чисто религиозный, именно понятия: таинственного, сверхъестественного знания, предвидения, предвещаний, гаданий, хитрости или ума, красной и мудрой речи, чаровании, жертвоприношений, очищений, суда и правды, и, наконец, врачевания, которое сливалось в язычестве с очищениями». Наиболее полное описание христианской и вообще религиозной символики голубого и синего цвета мы находим в работе П. А. Флоренского «Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего цвета». Обобщая теории Фр. Порталя, Леонардо да Винчи, Гете, Лидбитера, посвященные символике цвета, Флоренский достаточно однозначно связывает голубой цвет с идеями божественными, религиозными: «Лазурь, в своем абсолютном значении, представляет небесную истину; что истинно, что есть в себе— то вечно, как и наоборот, преходящее — ложно. Лазурь была, поэтому непременным символом божественной вечности, человеческого бессмертия, и, вследствие этого, естественно стала цветом траурным». Содержание высоких звуков в молитвах выше, чем в заговорах (соответственно 56.16% и 53.13%), а длина слова в слогах — чуть больше (2.22 и 2.06). Индексы лексики в молитвах (см. таблицу 1) идентичны соответствующим индексам заговоров, что еще раз доказывает их генетическую близость. Грамматический состав молитв (таблица 2) имеет следующие особенности: 1) ничтожное содержание числительных (0.48); 2) более высокое содержание союзов (прежде всего, союз «и»)—10.86% Остановимся подробнее на анализе одной из молитв — «иисусовой». Иисусова молитва является основой одной из классических славянских психотехник, известной на Руси под названием «умного делания». (Особенно подробно описано «умное делание» в книге «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу»). Иисусова молитва применялась в двух вариантах: полном (Господи Исусе Христе, сыне божий * помилуй мя грешного) и сокращенном (Господи Исусе Христе, * помилуй мя). Рекомендовалось начинать «делание» с наиболее простого сокращенного варианта и, по мере просветления, переходить к полному. Есть ли лингвистические отличия в этих вариантах? Анализ показывает, что в полном варианте молитвы появляется признак «светлый», почти равноправный (по показателю) с ведущим признаком «тихий». Фоносемантические признаки полного и сокращенного вариантов Иисусовой молитвы Таблица 7 Ранг Сокращенный вариант Полный вариант I тихий (7.46) тихий (4.84) II медлительный (6.59) светлый (4.61) III печальный (3.47) минорный (4.24) Состав звуков, превышающих нормальную частотность, в полном и сокращенном вариантах, также почти одинаков (С, Г, П, X, М', И), только в сокращенном варианте превышает нормальную частотность еще гласный У (по данным А. П. Журавлева он также «синий», но «тусклый» и «темный», в отличие от «светлого», «яркого» И). Следовательно, и здесь заметно усиление той же идеи постепенного просветления. Грамматический состав Иисусовой молитвы характеризуется преобладанием имен существительных и собственных (60% в сокращенном варианте и 50% — в полном). Золотое сечение (отмечено звездочкой) и в том и другом случае перед словом «помилуй», т. е. совпадает с кульминацией текста и делит его на две неравные части: развернутое обращение (большая часть) и короткая смиренная просьба (меньшая). Таким образом, анализ молитв показывает, что убеждение в том, что культовые ритуалы с точки зрения суггестии (внушения) «могут рассматриваться как способ волевого воздействия», не совсем правомерно. Молитва в такой же степени контрсуггестивна, в какой суггестивна (недаром молитва широко использовалась христианами как защита от иррационального, опасного, злого. На основании объективного лингвистического анализа молитв вполне можно согласиться с утверждением В. Ахромовича и X. М. Алиева о целебном влиянии молитвы на физико-химическую и психофизиологическую основы человека. Рассмотрим еще несколько примеров, чтобы выяснить, какие конкретные закономерности (лингвистические параметры) молитв способствуют процессам саморегуляции личности. Обратимся к исследованию Л. П. Гримака, который пишет: «Представление о Боге, в каком бы обличье он ни мыслился, сочеталось с глубокими и прочными эмоциями. Глубинный страх, экстатическое преклонение, распахнутая готовность послушания этому высшему существу, определяющему само существование — вот что такое Бог для человека. Поэтому любая просьба, обращенная к нему, сопровождалась напряженным ожиданием и поиском признаков, которые бы подтверждали факт ее реализации. А непоколебимая вера в защитительную роль бога, впитанная с молоком матери, при желании позволяла любому находить такого рода признаки. Особенно это было действенно, когда просьбы касались внутренних проблем самого молящегося: „о ниспослании утешения в горе“, „умножения сил в многотерпенье“, „даровании выздоровления от болезни“ и т. п. Старец Зосима в „Братьях Карамазовых“ Ф. М. Достоевского хорошо, на наш взгляд, раскрывает эту психотерапевтическую роль религиозных представлений, выраженных в данном случае через молитву: „Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва есть воспитание“». Чтобы проследить, каким образом осуществляется механизм психокоррекции, выход на интегральные проблемы бытия через дискретные тексты, сравним несколько наиболее распространенных молитв: 1) Молитва Господня («Отче наш...»); 2) Молитва Честному Кресту («Да воскреснет бог...»); 3) Канон покаянный («Владыко Христе Боже...»); 4) Псалом 90 («Живый в помощи Вышняго...»); 5) Символ веры («Верую во единаго Бога Отца...»); 6) «Песнь пресвятой Богородице» («Богородице дево радуйся...»). Фоносемантические признаки избранных для анализа молитв колеблются в достаточно широком диапазоне («Отче наш» — «медлительный», «сильный»; «Честному кресту» — «нежный», «тихий», «светлый»; «Канон Покаянный» — «медлительный», «светлый»; «Псалом 90» — «нежный», «прекрасный», «светлый»; «Символ веры» — «светлый»; «Богородице дево» — «сильный», «суровый», «яркий»). «Сквозным» признаком является «светлый». Особое место занимает «Песнь пресвятой Богородице», которая авторами «Молота ведьм» инквизиторами Я. Шпренгером и Г. Инститорисом объявляется одним из способов освобождения «от соблазнов инкубов и суккубов» и, в силу своей краткости и фоносемантического состава может быть приравнена к защитным мантрам йогов. Те же авторы предлагают в качестве лечебного и защитного способа, вслед за св. Августином, следующее: «Когда же надобно вам что-нибудь сделать или куда-либо выйти, то осеняйте себя крестным знамением во имя Христа и, произнося с верою символ веры или молитву Господню, действуйте спокойно с божьей помощью». Возможно, конечно, что разброс фоносемантических признаков объясняется преимущественным вниманием к содержанию молитв, однако определенная закономерность здесь просматривается. Чем «сильнее» с точки зрения профессионалов молитва, тем больше разброс признаков (амбивалентность на фоносемантическом уровне, множественность, размытость сверхсмы-слов). Наиболее частотные «звукобуквы» в молитвах — В, С, Г, Щ, Я, И. В молитве «Честному Кресту» преобладает Б, что соответствует сиреневому цвету; остальные молитвы — «синие» (голубые), за исключением «Песни Пресвятой Богородицы», где из всех гласных преобладает «желтый (белый)» О. По П. А. Флоренскому «цвет желтый... — это цвет ближайший к свету, так сказать первое явление света в веществе. Напротив, голубой — это как бы тончайшая мгла, — как бы наиболее просиянное вещество». Говоря о световых оболочках (аурах), окружающих все тела, Флоренский, вслед за Лидбитером, отмечает: «голубое есть знак самоотверженности и желания приносить себя в жертву за всех. Если эта склонность к самопожертвованию крепнет настолько, что претворяется в сильный акт воли, выражающийся в деятельном служении миру, тогда голубое просветляется до светло-фиолетового». Характерно, что именно молитва «Честному Кресту», в которой идея самопожертвования выражена наиболее ярко, по цветовой символике отличается от других молитв. Л. П. Гримак, объясняя психологические механизмы благотворного действия молитв, отмечает, что бог выполнял функции своеобразного духовного зеркала, в которое привычно и повседневно смотрелся человек, выверяя в нем чистоту и праведность своего морального облика. Именно потребностями самокоррекции объясняется выбор личностью с христианской мифологией той или иной молитвы. Отсюда и традиционное разделение молитв на «утренние», «на сон грядущим» и др. Различное функциональное назначение отражается и на грамматическом составе молитв. Во всех проанализированных молитвах преобладают существительные, за исключением Господней молитвы («Отче наш...»), где наибольшее количество местоимений. По мнению Л. Н. Мурзина, «местоимение — это чрезвычайно абстрактная часть речи и в то же время чрезвычайно конкретная в употреблении. В любом тексте местоимение предельно конкретно, ведь оно замещает не предшествующее предложение, а весь текст, наполняясь весьма конкретным содержанием». Может быть, именно это обстоятельство объясняет универсальность указанной молитвы? Эту молитву характеризует также наименьшая длина слова в слогах (1,86), следовательно, наибольшая ритмичность. В текстах молитв, как и текстах заговоров, большое количество имен собственных (при обсчете мы их объединили в одну группу с именами существительными). Как отмечал П. А. Флоренский, «имена всегда и везде составляли наиболее значительное орудие магии, и нет магических приемов, которые обходились бы без личных имен». «...Народных убеждений достаточно, чтобы сделать имена очагами творческого образования личности. В самом деле: человечество мыслит имена как субстанциональные формы, как сущности, образующие своих носителей-субъектов, самих по себе бескачественных. Это категории бытия». В суггестивных текстах собственные имена не противопоставлены терминам, а напротив, выполняют функцию, сходную с функцией термина — сверхфункциональны сравнительно с обычными словами текста, выполняют дополнительную функцию — «функцию описания текста». Ведь именно суггестивные, магичные тексты имел в виду, прежде всего, П. Флоренский, когда писал о нормативном значении имен, о их роли как социальных императивов, и утверждал с точки зрения христианской мифологии: «Мы исповедуем абсолютную (бесконечную) Личность, абсолютный идеал — Христа, (его воплощение здесь, на земле)». «Иисусова молитва» в этом смысле в своей части до «золотого сечения» представляет собой сплошное перечисление синонимичных (ритм — по В. В. Налимову!) имен. Мантры и заклинания — тексты заимствованной мифологииА. П. Журавлев, на основании данных, полученных экспериментальным способом, утверждает, что «фонетическое значение изначально и универсально в той мере, в какой оно определяется акустическими и артикуляторными признаками звуков речи, и вторично, специфично для каждого языка в той мере, в какой на него влияют особенности речевого строя и специфические закономерности развития фонетики и семантики в разных языках». То же констатирует И. Н. Горелов, цитируя проф. Карла Леонхарда, известного своими исследованиями в области медицинской психологии, по данным которого «звуковые выразительные средства (имеются в виду непроизвольные фонации, сопровождающие выразительные движения или вообще эмоциональные состояния) воспринимаются и интерпретируются с той же уверенностью и определенностью (что и мимические средства) всеми людьми, будь то женщины или мужчины, старики или дети, людьми с низкими и сильными или с высокими и слабыми голосами». Ввиду универсальности фонетического значения слов и текстов, поучительно проанализировать не только славянские классические суггестивные тексты, но и тексты иноязычные — мантры, и квазииностранные — заклинания, успешно функционирующие параллельно со славянскими. Мантры, по определению С. А. Гуревича,— это «специальные звукокомплексы, которые помогают фиксации мыслей... — формулы самовнушения, заклинания в виде слов и фраз, пения и стихов, предназначенных для максимально глубокого сосредоточения на конкретной мысли и образе. Хотя мантры переводимы, рекомендуется произносить их на языке оригинала: считается, что они основаны на определенной комбинации звуков, вызывающих физиологический эффект». Учение о мантрах объединяется в раздел «мантра-йоги», предназначенной «для лечения психических расстройств путем неоднократного произнесения мантр с медитацией на определенных образах». Мантры связываются в сознании носителей языка, прежде всего, с санскритом и ведийскими языками (слово «мантра» по происхождению — санскритское). Названия санскрита обозначает «составленный», «сложенный» язык, доведенный до формального совершенства. Основная цель использования «божественного языка» — санскрита — идеальная запись сакральных текстов. Эта задача была решена древнеиндийскими грамматистами довольно удачно. Еще В. Гумбольдт в статье «Характер языка и характер народа» признавал: «что касается греческого и латинского, то они обязаны своим первоначальным устройством удачному выражению каждой мысли в древнеиндийском». С другой стороны, американский ученый Рик Бриггс назвал санскрит идеально пригодным языком для изучения проблем искусственного интеллекта: не утратив своей выразительности, санскрит в результате специальной обработки обрел ясность и четкость математического характера, словом, все то, что и требуется для компьютера. Для нас наиболее важен тот факт, что «действующим началом в мантрах считалось само слово в его конкретной звуковой форме (и в момент произнесения)», а совершенствование санскрита начиналось со стороны его звуковой обработки. Аргументация правомерности применения автоматического анализа текста, ориентированного на нормальную частотность звуков русского языка, к иноязычным текстам, может быть следующей. Во-первых, должна быть общая точка отсчета для сравнения различных текстов. Во-вторых, речь идет о восприятии этих текстов носителями русского языка. В-третьих, русский язык и ведийские языки являются генетически родственными языками, что отмечается многими лингвистами. Так, Т. Я. Елизаренкова пишет: «По глубокому убеждению переводчика, при переводе с ведийского на другие языки русский язык обладает рядом несомненных преимуществ перед западноевропейскими языками. Эти преимущества определяются как большой степенью соответствия между ведийским и русским в силу лучшей сохранности в нем архаизмов, чем в западных языках, так и большей близостью русской (славянской) мифо-поэтической традиции и индо-иракской». Наряду с мантрами целесообразно рассмотреть тексты заклинаний, используемые в различных магических системах. Мы уже отмечали большую эффективность иноязычных слов в связи с теорией «философем чужого языка» В. Н. Волошинова. Сходные идеи находим в работе В. И. Жельвиса «Эмотивный аспект речи», где автор пишет о боязни всего чужого как следствии определенных первобытных представлений: «Ощущение грубости, „поганости“ чужой инвективы могло напрямую ассоциироваться с возможностью использования древней формулы, позднее ставшей инвективной, как магической сакральной идиомы. Известно, что первобытные народы гораздо больше боялись колдовства чужаков, чем своих собственных колдунов. Естественно поэтому, что проклятия (заклинания) на чужом языке могли восприниматься как более сильные, чем на родном». Всего проанализировано 252 мантры и 36 заклинаний (625 слов). Как видно из таблицы, мантры сконструированы по более жесткому принципу, нежели заклинания (и тем более — молитвы и заговоры). Преобладание звука А характерно для языка Вед и соответствует данным Т. Я. Елизаренковой о том, что «А является самым употребительным звуком вообще и наиболее употребительным гласным в частности». Большое количество звуков X объясняется наличием придыхательных звуков. Выборочные совокупности мантр и заклинаний имеют общие закономерности, к которым можно отнести превышение нормальной частотности звукобукв Д, Р, М, X, Р', А, И. Особенно следует выделить А и М, которые в других группах универсальных суггестивных текстов имеют отрицательное отклонение (т. е. их частотности ниже нормальной). Поскольку гласный А является наиболее частотным в группе мантр и заклинаний, можно предположить, что эти тексты «окрашены» преимущественно в ярко-красный цвет. Символику красного цвета, характерную для древней восточной традиции, подробно описывает В. Сидоров: «Цвет любви и преданности. ...Когда-то в тебе должно возникнуть ощущение, которое превратится потом в уверенность, что тебя любят. Любят, как отец и мать, взятые вместе, и более того. На многих случаях ты можешь убедиться в любви Учителя, ведущей тебя неизменно в гору, а не увлекающей тебя в бездну». Иными словами: красный цвет — цвет любви и Учителя. Если вспомнить традицию передачи мантры учителем ученику — только тогда она становится действенной, то красный цвет, цвет Учителя (божества) здесь оказывается вполне уместен и даже необходим. Сатпрем пишет: «Можно вычитать мантры из книги и повторять их до бесконечности, но если они не были даны Учителем, или Гуру, то они не будут обладать энергией или „активной силой“». Мантры, как и молитвы сосредоточены, прежде всего, на именах тех или иных божеств. Существенно, что мантры считаются одним из основных элементов медитации и действительно широко используются населением многих стран в целях самоорганизации своей психической жизни, причем, как отмечает Л. П. Гримак «в подавляющем большинстве случаев понятие бога как сверхсилы практически не используется». Д. Н. Овсянико-Куликовский в «Основах ведаизма» отмечал, что мантры — «это не моления в собственном смысле, это почти приказания, но только особого рода: их можно удобнее всего назвать „заклинательными формулами“», а В. В. Семенцов назвал мантры возгласами, чаще всего стихотворными или ритмизованными. Анализируя термины, которыми преимущественно обозначаются в гимнах Риг-Веды разные виды словесных обращений к божеству, Д. Н. Овсянико-Куликовский отмечает: «Чаще всего употребляются, как своего рода технические термины, слова: gir— (гир) — собственно „голос“, „пение“; vac — (вач) — собственно речь, пение; brahman — (брахман)—„экстаз“, dhi— (дхи) —мысль, желание, намерение, стремление; dhiti — то же самое, и некоторые другие слова для обозначения разного рода обращений к божеству, преимущественно призывных, поощрительных, просительных, благодарственных, а также и хвалебных, но для последних, для славословий в собственном смысле, существует специальный термин: stoma — (стома) — хвала, прославление, гимн. Эта терминология довольно наглядно рисует нам ведийское понятие молитвы. Ведийская „молитва“ прежде всего, есть vac и gir, т. е. она непременно должна быть выражена в словах и пропета. Оба термина выражают в себе представления речи-пения». В. В. Семенцов приводит примеры отдельных мантр: «вашат, ваушат, шраушат, ват, ваат, вет», — и отмечает, что «общей чертой этих возгласов является постепенное стирание в них содержательной стороны: в одних благодаря чудесной прозрачности языка она еще может быть реконструирована, в других лексическое значение слова приносится в жертву; наиболее ярким примером этого второго типа, видимо, следует считать знаменитый ОМ (АУМ), который произошел из удлинения начальных и конечных слогов определенных слов с последующей назализацией». Великий слог ОМ — это маха-биджа-мантра. Слово «маха» означает «великий», «биджа» означает «семя, источник, причина». «Маха-биджа» означает, что слог ОМ является источником всех мантр, самой главной мантрой. В ведийской традиции считается, что все Веды, вся Вселенная и все существа произошли из ОМ. «Ведь этот слог (ОМ) — согласие, ибо, когда [человек] с чем-либо соглашается, то говорит „да“ ([ОМ]); то, что есть согласие, — это и есть исполнение [желания]. Исполнителем желаний становится тот, кто, так зная, почитает слог [ОМ] при исполнении [Самаведы]», — утверждает Чхандогья упанищада. Основные фоносемантические признаки великого ОМ следующие: «медлительный» (5,29); «прекрасный» (4,66); «суровый» (4,07). Это действительно великое начало, колокол, звук, который должен непременно отозваться. Недаром ОМ всегда начинает санскритский текст, а славянская частица «аминь» (да будет!), связанная с ОМ по происхождению, обычно заканчивает религиозный или магический текст. «Аминь» характеризуется следующими признаками: «нежный», «женственный», «добрый» (2,1); «безопасный» (2,2), «гладкий» (2,4), «светлый» (2,5), «медлительный» (3,5). Так, маха-мантра («Харе Кришна...»), широко практикуемая кришнаитами, характеризуется следующими фоносемантическими признаками: «устрашающий» (23,01), «тяжелый» (12,33), «темный» (9,09), а качества этой мантры трактуются следующим образом: «Уносит все беспокойства, даруя радость, счастье, гармонию и энергию. Проясняет ум, очищает сердце от пороков, просветляет сознание. Разрушает зло и невежество, награждает сияющим знанием. Уносит скорби, печали, несчастья. Пробуждает любовь ко всему сущему, озаряет светом» (Шалаграма Даса). Гайатри-мантра характеризуется признаками «суровый» (15,38), «устрашающий» (15,29), «темный» (14,39). И т. д. Данные таблицы 10 показывают несомненную близость всех приведенных текстов в фоносемантическом аспекте. Следует отметить, что с точки зрения ориентации — лечебные (защитные) мантры и «чернушные» (вредоносные) — это одни и те же звуковые формулы, произносимые с разной ориентацией — на благо или зло. В целом можно назвать тип мантрического воздействия «жестким» — это в чистом виде суггестивное, неотвратимое как смерть звуко-ритмическое воздействие, хотя установочная ориентация индексального типа (на добро или зло) все-таки формулируется суггестором на родном языке. Формулы аутотренинга и гипноза — тексты научной (медицинской) мифологии Л. П. Гримак, автор книги «Общение с собой», отмечает: «Исцеляющая сила слов, формулирующих наши внутренние проблемы, до сих пор еще остается во многом неясной. Вместе с тем несомненно, что субъект находит облегчение от внутренней тревоги, если ему дается возможность высказаться». В начале книги мы подробно рассмотрели историю появления и развития гипноза, внушения, аутотренинга. Вся эта история сопровождалась поиском наиболее эффективных формул воздействия на подсознание личности или группы людей. Формальные признаки этих текстов можно найти в таблице 10. Отметим некоторые из них: 1) Фонетическое значение текстов формул гипноза и AT следующее (5 ведущих признаков в порядке убывания): Как видим, формулы аутотренинга более оптимистичны и обработаны, что, по-видимому, связано как с определением объекта воздействия (формулы гипноза гетеросугтестивны, формулы аутотренинга — аутосугтестивны), так и с более поздним появлением AT как метода. Звукобуквенный состав этих групп имеет следующие отличия: в формулах гипноза содержится большее количество звукобукв В, С, С', К', Т', У, И, Ы; в формулах AT — О, Ю, Я. Характеристика индексов лексических единиц показывает,что формулы гипноза в наибольшей степени предсказуемы (Р = 44,55), тогда как в формулах AT этот показатель равен всего лишь 9,13. Грамматический состав формул гипноза характеризуется преобладанием глаголов (25,49%), существительных (18,65%) и местоимений (15,75%); в формулах AT преобладают существительные(21,34%), глаголы (20,63%), прилагательные (18,24%), что можно легко объяснить опять же разнонаправленностью данных текстов иразличными установками их создателей (гипноз заставляет человека совершить какое-либо действие, AT — прежде всего, изменитьотношение к окружающей действительности). В. В. Налимов, выдвинувший концепцию о континуальных потоках сознания, исходил из представления о том, что «как мир жизни в самом широком ее проявлении, так и сознание человека выступают перед нами как текст». Именно это исходное положение позволило ему «построить вероятностный язык видения Мира — язык, который исходит из того, что реальность предстает перед нами в своей двоичной ипостаси — дискретности (знаковой системы) и континуальности (языковой семантики)». Осмысляя концепцию Налимова в связи с процессами общения с собой (аутосуггестии), Л. П. Гримак следующим образом описывает это явление: «Человек с помощью обычного дискретного языка задает вопрос самому себе и как бы включает свой мыслительный процесс, его спонтанную и текущую часть. Получая ответ, он анализирует его на логическом уровне и если ответ его не удовлетворяет, то задает следующий, видоизмененный вопрос». Личность, по В. В. Налимову, — «это, прежде всего, интерпретирующий себя самого текст. Этот текст еще и способен к самообогащению, к тому, чтобы стать многомерным. Этот текст способен к агрегированию себя в единое с другими текстами. Этот текст нетривиально связан со своим носителем—телом, а в случае гиперличности— со многими телами. Это есть самочитаемый текст — текст, способный самоизменять себя. Личность — это спонтанность. Спонтанность — это открытость вселенской потенциальности. Способность попадать в резонанс с ней». При этом «мир смыслов... должен быть погружен в трагизм». Иными словами, должен быть толчок к самоизменению, самопрочтению личности. Учитывая данные нейрофизиологов о разнице между гипнотическим состоянием и медитацией и сравнивая аутосуггестивные и гетеросуггестивные универсальные тексты, можно точнее описать механизм возникновения такого состояния. Если в случае гипноза толчок (диалектическое противоречие) проявляется через создание одной из модификаций социально-психологической роли Божества (т. е. текст коммуникативно «смягчается», нейтрализуется), то в случае аутокоммуникации, где весь трагизм сосредоточен в специально смоделированном тексте, противоречивые признаки должны выйти наружу. И это особенно заметно в мантрах, сосредоточенных преимущественно на звуке, где преобладают признаки «суровый», «устрашающий», «темный». Анализ универсальных суггестивных текстов в целом (таблица 10) обнаруживает следующее: Наиболее частотными признаками указанных текстов являются: «яркий», «возвышенный», «сильный», «медлительный». Наиболее «жестко» сконструированы мантры и формулыгипноза. Нормальную частотность превышают во всех типах текстов «звукобуквы» Г, И; повышенной частотностью отличаются такжеВ, С, П, Б, Х, Р', М', Ж, Я. Высокие звуки в универсальных суггестивных текстах составляют в среднем 54,76%; их больше в молитвах — 56,16%, меньше — в мантрах и заклинаниях (соответственно 45,93% и 47,34%). Славянские классические суггестивные тексты (заговоры, молитвы, заклинания) ориентированы преимущественно на гласный И; мантры — на гласный А. В текстах заклинаний сочетаются закономерности, характерные для мантр и славянских текстов. Учитывая данные психологов о том, что «ввиду рефлекторного характера многих гласных звуков их произношение первоначально должно было находиться в исключительной зависимости от физиологических состояний» и о том, что «звук А происходит как рефлекс вследствие внезапного сокращения грудных мышц и прорывающейся путем сильного выдыхания при раскрытом рте струи воздуха через отверстия голосовых связок; при этом и здесь рефлекс часто также сопровождается последовательным придыханием — АХ, как это случается, например, при внезапном кожном раздражении резкого характера» (Бехтерев, 1991, с. 378), можно предположить, что мантры ориентированы на более древние пласты подсознания и по происхождению старше заговоров. Лексические показатели, рассчитанные для славянских текстов, в общем, совпадают, за исключением формул аутотренинга. «Сдвиг» показателей в этом случае можно объяснить малым объемом (краткостью) указанных текстов. Грамматический состав славянских универсальных суггестивных текстов в целом характеризуется преобладанием существительных (25,97%), на втором месте — глаголы (19,61%), на третьем — местоимения (14,26%) и только на четвертом и пятом— прилагательные (12,7%) и наречия (9,45%). Такое соотношение соответствуетданным А. Н. Гвоздева (1961), наблюдавшего за развитием детскойречи. Из грамматических категорий в первую очередь усваиваютсякатегории с отчетливо выраженным предметным значением, а затемкатегории, в которых это предметное значение выражено все слабее: наиболее рано в речи ребенка начинает обозначаться объектдействия, а глагол, обозначающий действие, появляется несколькопозднее и часто ставится в конце предложения. Еще позднее появляются прилагательные. В целом состав универсальных суггестивных славянских текстов отличается от грамматического составатекстов технической и художественной литературы (см. таблицу 4)меньшим количеством существительных и большим — глаголов, что подтверждает гипотезу Б. Ф. Поршнева об особой суггестивнойроли глагола. Наибольшее количество существительных — в текстах заговоров (33,65%), наименьшее — в формулах гипноза (18,65%). Это естественно, т. к. в гипнотических формулах суггестивная функция выступает не латентно, а явно, что обеспечивается большим количеством глаголов (25,49%). В молитвах, в силу их личной направленности, большее, по сравнению с другими группами текстов, количество местоимений (16,61%). 9) Наиболее частотные сочетания звуков гармонируют с фоносемантическими признаками текстов, так что можно предположить, что именно они составляют «каркас» фонетического значения текстов. Многократное повторение одного и того же сочетания звуков в составе различных слов, по-видимому, обеспечивает такое же воздействие, как и мантра, состоящая из одного слога, но повторяемая много раз. При этом слова, содержащие одинаковые, превышающие нормальную частотность звуки и сочетания звуков, можно считать фоносемантическими синонимами, обеспечивающими ритм текста и латентно воздействующими на установку личности. В ряде случаев признаки, передаваемые через наиболее частотные слоги, и общие признаки текста не совпадают, следовательно, концентрация происходит на отдельных звуках. Небольшая средняя длина слова в слогах (2.26) также обеспечивает ритмичность универсальных суггестивных текстов. 10) Универсальные суггестивные тексты по своему составу неоднородны: среди них встречаются ауто- и гетеросуггестивные. Можно проследить явное «расслоение» в группе, например, аутосугтестивных универсальных текстов в зависимости от их целевых задач. По-видимому, молитвы осуществляют в основном контрсуггестию, отсюда и доминирующие признаки — «светлый» (45,87), «нежный» (33,87) и «яркий» (27,16). Формулы AT рассчитаны на самокодирование через смысл, отсюда их явное «родство» с текстами психотерапевтического воздействия (признаки «возвышенный» (38,25), «сильный» (35,03), но здесь же выделяется признак «яркий» (33,39) — тот же, что и в молитвах. Мантры ориентированы на чисто звуковое кодирование через «музыку сфер», механизм их воздействия целиком сосредоточен на звуковом ритме, лексическим значением (по крайней мере, для носителей русского языка) не подкреплен, отсюда «жесткость» признаков — «устрашающий» (85,66), «суровый» (84,34), «угрюмый» (63,78). «Толчком» к саморегуляции при помощи иноязычных аутосуггестивных текстов служит противоречие фоносемантических и смысловых признаков текста, что приводит к усилению эффекта воздействия. Рассмотренная группа универсальных суггестивных текстов действительно может быть описана при помощи объективных лингвистических методов и обладает особыми параметрами, характеризующими каждый из выделенных нами типов мифологии, а обнаруженные универсальные суггестивные механизмы языка могут быть использованы в экспертных системах и при моделировании текстов для направленного психофизиологического эксперимента. Тогда с полной уверенностью можно сказать: «Слово мое крепко. Ключ. Замок. Аминь»... и обрести... силу ведьм. Глава 5. Сила ведьмы (мифологическая личность и текст)
Допустим, мы научились порождать идеальные тексты, направленные на людей с разными мифологическими установками. Довольно ли этого? Конечно, нет. И личность, и общество должны принять человека, пытающегося осуществить суггестивное воздействие, иначе возникнет проблема контрсуггестии, барьера восприятия. А. Добрович считает, что для воздействия чисто психологического нужна особая социально-психологическая роль — роль Божества: «Конечно, мы, врачи, предпочитаем гипнотизировать больных с использованием всего арсенала физиологических усыпляющих воздействий: звуковых, зрительных и прочих. Оно и надежнее, и не пугает человека, и не оставляет у него унизительного чувства, что некто сломал его волю и повел на веревочке. С другой стороны, чтобы гипнотизировать иначе — чисто психологическим способом, — вам пришлось бы взять на себя слишком много. Выражусь точно и определенно: пришлось бы взять на себя особую социально-психологическую роль. Роль, которая наполовину бессознательно, но почти мгновенно улавливается пациентом». Более того, А. Б. Добрович предлагает набор ролей, имеющих суггестивное значение, то есть позволяющих внушить человеку то, что вы замыслили: «...среди суггестивных ролей на первое место я поставил бы роль Божества. Если вы способны по отношению к своему слушателю выступить в роли Божества — считайте, что он уже загипнотизирован. С той же секунды, как признал вас таковым! Притягательно, но и страшно Божество. В нем сверхчеловеческая мощь и власть, недосягаемая мудрость, непостижимое право карать или миловать... Перед ним остается лишь лечь лицом в пыль и с благоговейной покорностью ждать своей участи... Роль Божества... можно сравнить с белым солнечным светом. Если эту роль разложить на спектр, то каждый участок спектра, в свою очередь, окажется суггестивной ролью. Начнем, если хотите, с теплого конца спектра и будем двигаться к холодному. Роль Покровителя (красный цвет) Покровитель — значит, могучий и властный, но добрый к тебе человек. Опора в бедах, утешение в страданиях, предмет благоговения... Роль Кумира (оранжевый цвет) Кумир знаменит, обаятелен, пользуется всеобщим восторженным восхищением... Помните, как экзальтированные девицы и юнцы рвали одежду с обожаемых „битлов“? Сохранить на память хоть клочок галстука, хоть ниточку из подштанников... Роль Хозяина или Господина (желтый цвет) Любое его слово — закон. Попробуйте не подчиниться, есть нечто похуже смерти: пытки, когда смерти ждут, как счастливого часа. Но если вы будете лояльны к Господину и выскажете полное послушание, вам будет хорошо. Вас, может быть, приблизят, обласкают, облекут относительной властью. Угодите ему — и станете жить в довольстве. Не сумеете угодить — пеняйте на себя. Роль Авторитета (зеленый цвет) Этот обладает ограниченной властью и не обязан творить благие дела. Благо уже в том, что он больше других разбирается в каком-нибудь общеполезном или важном деле. К нему нельзя не прислушиваться. Не воспользуешься его советом — гляди, сядешь в лужу. Роль Виртуоза или Ловкача (голубой цвет) Выступая в этой роли, вы даете понять, что умеете совершить невозможное. Хорошее или плохое — не важно. Виртуозный делец, „из-под земли“ добывающий то, чего иным и не снилось; виртуозный вор-карманник; виртуозный игрок, фокусник, стихоплет, спорщик — что угодно. В любом случае вы завораживаете публику, и даже ограбленный вами субъект не может не восхищаться вашей ловкостью и не позавидовать ей в глубине души. Роль Удава (синий цвет) Это не Властитель, не Господин, хотя он при желании может сделаться для вас и Хозяином. Это тип, который видит все ваши слабые места и в любой момент готов поразить их, что доставляет ему истинное удовольствие. Ломать вас, топтать вас ему так же легко, как вам сигарету выкурить. И так же приятно. Вы боитесь его и предпочитаете подчиниться, так как ни на миг не поверите, что способны справиться с ним, дать сдачи. Роль Дьявола (фиолетовый цвет) В этой роли вы — олицетворенное зло. Зло „метафизическое“, зло ради зла, а не во имя какой-либо цели. В известном отношении это „божество с обратным знаком“. Беспредельная власть божества, но при этом беспредельная ненависть ко всему человеческому, светлому, упорядоченному. Неумолимая пасть акулы; земля, разверзшаяся при землетрясении; скелет с острой косой, садящийся за ваш свадебный стол». А. Б. Добровича отдает предпочтение ролям Покровителя и Авторитета: здесь не требуется шарлатанства, достаточно убежденности и некоторого артистизма. Если проанализировать предложенную выше классификацию суггестивных ролей, становится ясно, что в каждом конкретном случае мы имеем дело с модификацией ключевой роли — роли Божества. Попробуем заменить термин «особая социально-психологическая роль» термином «миф», понимаемым, прежде всего, как «развернутое магическое имя». По мнению известного французского ученого Клода Леви-Стросса, цель мифа состоит в создании логической модели для преодоления какого-либо противоречия. «При этом логический инструмент соединения фундаментально противоположных сторон состоит в том, что вводится посредник (медиатор), который и выполняет роль соединителя противоположностей. При этом посредник наделяется двойственным характером обличья, поведения и т. д., что и позволяет ему осуществлять медиацию. Так, например, миф об Эдипе содержит, по Леви-Строссу, логический инструмент, позволяющий перебросить мост между противоположностями изначальной проблемы: рождается ли человек, будучи одним, от одного или двух? Роль скальпа в мифах индейцев состоит в медиации между войной и мирным земледелием (скальп — „урожай“, собираемый во время войны: кожа с волосами, символизирующими растительность, снималась с головы убитого или живого врага) и т. д. Обнаружив определенную логическую последовательность в построении различных мифов, Леви-Стросс выдвинул концепцию „сверхрационализма“, считая, что возвращение к свойственному первобытному мышлению способу преодоления противоречий открывает путь для устранения антиномии чувственного и рационального, для научного постижения явлений, ранее не входивших в круг научных интересов или не нашедших в соответствующих областях научного знания понимания и объяснения». А. Ш. Тхостов призывает «изучать, вычитывать и расшифровывать скрытые мифы. Это поможет не утрачивать связи с реальностью, имея в виду основополагающую ограниченность мифического сознания, и использовать полученные знания в терапевтической практике, корригируя вредные и создавая необходимые мифологии. Это требует тщательного изучения принципов мифологизации болезни, так как навязываемые, не вписанные в общую систему медицинские требования плохо приживаются на чужой почве. Лечение, лишенное адекватного мифа, в значительной степени утрачивает свою субъективную эффективность, тогда как самые абсурдные и вздорные рекомендации, включенные в миф, сохраняют свою притягательность, несмотря на объективно приносимый ими вред». Итак, если обобщить средства, которыми по А. Б. Добровичу создается «особая социально-психологическая роль», а по А. Ш. Тхостову «миф», получим следующий набор: 1) общее выражение лица; 2) глазодвигательные реакции (выражение глаз); 3) поза; 4) жесты; 5) голос; 6) принадлежность к «богам», к «чуду»; 7) эзотерическое, тайное знание; 8) особое поведение; 9) специальная одежда; 10) использование латыни — языка посвященных. Иными словами, особое внимание авторы уделяют группе экстралингвистических признаков, хотя имеется имплицитное указание на лингвистические признаки — владение иностранным языком — латынью (вспомним теорию «философии чужого языка» В. Н. Волошинова), к тому же информация об избранности и эзотеричности тоже должна каким-то образом закрепляться в языке. Напомним, что само слово «миф» произошло от греческого «mytnos» — «речь», «слово», «толки», «слух», «весть», «сказание», «предание». По-видимому, экстралингвистические признаки помогают закрепить в массовом и индивидуальном сознании то, что вербализовано и принято как миф. Действительно, мы вряд ли сейчас узнаем достоверно, как одевался Иисус Христос, каким было выражение его глаз и лица, каким голосом он говорил и какие жесты предпочитал, однако миф его продолжает определять образ жизни и мировоззрение миллионов людей. «При этом образ Иисуса Христа соответствовал, по-видимому, ...образу „философского камня“ — медиатора. Во всяком случае, образ Богочеловека несет в себе характерную для мифического посредника двойственность, позволяющую мысленно объединить те или иные противоположности, в частности противоположность между понятиями смерти и бессмертия. Попытка объяснения двойственности образа Иисуса Христа (с одной стороны — Бог, с другой человек) вызывала в свое время многословные дискуссии среди философов и теологов». Как писал Н. А. Бердяев, «в основе христианской философии, сколько бы она ни оперировала понятиями, лежит величайший, центральный миф человечества, миф об Искуплении и Искупителе». Таким образом, миф не является вымыслом, а, напротив, выражает героическую сущность происходящего в ее значимости для будущего при помощи специального языка — символического. Объясняя появление мифов, А. М. Кондратов и К. К. Шилий (1988) опираются на информационную теорию эмоций известного психолога П. В. Симонова, согласно которой эмоция возникает при недостатке информации для удовлетворения потребностей. Эмоция как бы компенсирует этот недостаток, побуждая животное и человека к действию, к поиску той самой информации, которой ему недостает. В данном случае полное отсутствие информации о неизвестном объекте означает, что отсутствует и информация о том, как удовлетворить внезапно возникшие потребности. Это приводит к тому, что каждая из потребностей рождает свою эмоцию: первая — страх, вторая — любопытство. Внезапное же и одновременное возникновение этих эмоций порождает эмоцию более сложную — испуг и, возможно, оцепенение. И неудовлетворенное любопытство, и страх — это стойкие отрицательные эмоции. Жить под их гнетом невозможно, потому что это может привести к разрушению психики, стрессам, нервным срывам. К счастью, природа наградила человека своеобразным защитным механизмом. Это качество — потребность в объяснении словом. Столкнувшись с необычным явлением, после того как проходило оцепенение, а затем и страх, человек начинал испытывать потребность в объяснении, пытался понять, что же произошло. Включалось в работу активное воображение, мозг начинал перебирать различные ситуации, чтобы отыскать в памяти что-нибудь похожее. Обыденные повседневные заботы, поиски пропитания постепенно оттесняли на задний план сознательные попытки дать объяснение встрече с неведомым. А так как сама потребность в этом объяснении не исчезала, то работа воображения продолжалась в подсознании, где включался механизм перебора, перегруппировки, сравнения и оценки информации, накопленной ранее и хранящейся в кладовых памяти. Этот процесс, не подчиняющийся законам обычной логики, называют свободной фантазией, комбинацией свободных ассоциаций, работой интуиции. Все промежуточные операции происходят в подсознании, а в сознании внезапно, как бы в виде озарения, откровения, вдохновения, возникает уже готовое решение. Подсознательный процесс поиска ответа мог длиться долг мог завершаться быстро, но, в конце концов, рано или поздно решение находилось, перебор вариантов завершался введением в сознание какого-либо образа. Образ этот, как правило, создавался на основе сходства или совпадения каких-то фактов во времени. Загадочное явление могло персонифицироваться в образ человека-зверя, просто зверя или человека, наделенного фантастическими, но заимствованными из прошлого опыта чертами. Когда объяснение без исследования (чаще всего во сне, в виде зрительного образа) было, наконец, найдено, отрицательные эмоции сразу же исчезали, само объяснение критике уже не подвергалось и проверке не подлежало. Защитный механизм сработал: осталось неудовлетворенного любопытства, не стало страха, пропало нервное напряжение. Мифологические объяснения без исследования были для человека снами наяву, избавлявшими его психику от стрессов. Можно сказать, что появление мифов — это защитная реакция психики появление отрицательных эмоций — неудовлетворенного любопытства и страха. Этнографы, психологи, нейрофизиологи единодушно приход к выводу о первичности отрицательных эмоций. «Религия племен тропической Африки, по наблюдениям многих этнографов, „покоится на том страхе, который внушают им много численные духи, окружающие их со всех сторон и постоянно старающиеся навлечь на них болезни, несчастье и смерть“. Этот страх породил богов и духов, в которых веруют бергама, жители Южной Африки, чья культура недалеко ушла от уровня культуры каменно го века. „Если мы спросим, в чем заключается жизненный нерв их туземной религии, мы получим следующий простой ответ: страх, ничего, кроме страха!“ — пишет этнограф Беддер в монографии о племени бергама. „Мы боимся! — говорил эскимосский шаман Ауа знаменитому норвежскому исследователю жизни народов Арктики Кнуду Расмуссену. — Мы боимся душ мертвых людей и душ зверей, убитых на ловле. Мы боимся духов земли и воздуха. Боимся всего, чего не знаем. Боимся того, что видим вокруг себя, и боимся того, о чем говорят предания и сказания. Поэтому мы держимся своих обычаев и соблюдём наши табу“». «В опытах с животными выяснилось, что в онтогенезе первыми получают выражение именно отрицательные реакции, соотносимые поначалу только с нейтральным состоянием организма; реакции же положительные формируются не ранее чем через две недели после рождения. Между тем, по мнению ряда афазиологов и других исследователей закономерностей угнетения и восстановления различных психических функций, позже других выключаются и раньше восстанавливаются те виды психической деятельности человека, которые развились в филогенезе раньше других. Соответственно отрицательные эмоции последними исчезают и первыми восстанавливаются, из чего делается закономерный вывод об историческом приоритете отрицательных эмоций и, естественно, средств их выражения. Положительная, мелиоративная эмоция — продукт дальнейшей эволюции организма. Очевидно, что именно этим обстоятельством и объясняется в значительной мере относительно большая легкость усвоения нами отрицательных эмоций сравнительно с положительными. „В строго научном смысле у животных нет эмоций“, — утверждает Б. Ф. Поршнев. — Просто у них в качестве неадекватного рефлекса (следовательно, тормозной доминанты) нередко фигурируют подкорковые комплексы, являющиеся по природе более или менее хаотичными, разлитыми, мало концентрированными, вовлекающими те или иные группы вегетативных компонентов. Это люди, наблюдатели, по аналогии с собой трактуют их как эмоции... Мы..., восходя к истоку эмоций у человека, обнаруживаем у него вначале не „эмоции“ во множественном числе, но единую универсальную эмоцию. Лишь с развитием неоантропов эмоция подыскивает „резоны“ и соответственно разветвляется: эмоции поляризуются на положительные и отрицательные, расчленяются по модальностям, наконец, получают детальную нюансировку. Ничего этого, очевидно, нельзя мыслить у эмоции в архетипе — она не имеет физиологической привязки к каким-то именно реакциям и их стимулам, как и абсурд не имеет в архетипе „содержания“». В связи с проблемой инвектизации речи, В. И. Жельвис рассматривает процесс образования амбивалентного понятия, который «можно представить в виде цепочки исследовательных превращений этого понятия, в начале которой стоит религиозное понятие святого, непосредственно божественного; в ходе эволюции понятия святое превращается в священное, то есть нечто уже не обязательно религиозно окрашенное, но исключительное по важности; священное именно в силу своей исключительной важности объявляется запретным, не упоминаемым всуе, иногда и неприкасаемым; соблюдение правил запретности подразумевает попытки их нарушения и наказания за это, т. е. запретное приобретает свойство опасного; в процессе борьбы против древних культов это опасное может начать переосмысливаться в „нечистое“: известно, что „нечистыми“, как правило, объявляются все отвергаемые обряды, традиции, нормы. „Нечистое“ же легко переходит в сознании в непристойное». Механизм возникновения мифов с негативной коннотацией отчасти схож с формированием инвективного вокабуляра: «С помощью инвективы профанируются сакральные понятия, т. е. исследуемое явление проявляет свою противоречивость и разноречивость, причем, инвективное глумление не только не свидетельствует о том, что для говорящего нет ничего святого, но как раз об обратном: о неосознаваемом им самим глубоком преклонении перед поносимым сакральным понятием. Сам же говорящий в первую очередь ощущает суггестивную роль инвективы — ее воздействие на эмоциональную сферу. Нередко на практике суггестия здесь совмещается с аутосуггестией: возбуждая себя, говорящий одновременно возбуждает другого. Но в случае намеренного оскорбления цель заключается, естественно, прежде всего, в возбуждении другого человека. В большинстве национальных культур эмоционально нагруженные слова „отрицательного толка“ встречаются в речи значительно чаще, чем „положительные“. Такая асимметричность имеет психологическое объяснение. Общеизвестно, что отрицательные, мешающие стороны бытия воспринимаются человеком намного острее, чем положительные, способствующие комфорту факторы, которые обычно рассматриваются как естественные, нормальные, а потому и менее эмоциогенные. Однако для выражения эмоций в той или иной мере совершенно необходимы оба типа эмотем. Дело в том, что аксиологически эмотивный словарь естественным образом соответствует... двум противоположным душевным движениям, притягиванию и отталкиванию, выливающимся у человека в виде любви и ненависти». Имея в виду первичность отрицательных эмоций, рассмотрим, каким образом формировался в массовом сознании негативно окрашенный и наиболее известный женский миф — миф ведьмы. По словарю В. Даля — «колдунья, чародейка, спознавшаяся, по суеверию народа, с нечистою силою, злодейка, у которой бывает хвостик». Словарь С. И. Ожегова дает следующее толкование: «Ведьма — 1. В старых народных поверьях: колдунья. 2. перен. О злой, сварливой женщине (прост.)». Фоносемантические же признаки слова «ведьма» следующие: короткий, нежный, безопасный; цветовые характеристики: красный, коричневый, синий (пылающий костер на фоне синего неба). Следовательно, если сравнить значения семантические и фоносемантические, становится ясно, что слово «ведьма» амбивалентно: его форма не соответствует содержанию. Обратимся к исследованиям этнографов, лингвистов и инквизиторов. «Молот ведьм» (Malleus maleficarum) — настольная книга охотников за ведьмами, написана в 1486 г. монахами-доминиканцами Якобом Шпренгером и Генрихом Инститорисом гласит: «Исидор Севильский говорит, что название ведьм происходит от их тяжких преступлений. Они производят смешение элементов с помощью демонов и этим вызывают град и бурю. Они же приводят в замешательство дух человеческий, т. е. наводят на людей сумасшествие, ненависть и туманящую разум любовь. Они же, даже без помощи яда, но силой своего заклинания, уничтожают душу». «Имеются на свете три существа, которые как в добре, так и во зле не могут держать золотой середины: это — язык, священник и женщина. Если они перейдут границы, то достигают вершин и высших степеней в добре и зле». А. Н. Афанасьев в книге «Ведун и ведьма» пишет: «И ведун и ведьма живут между людьми и ничем не отличаются от обычных людей, кроме небольшого хвостика». (Здесь налицо попытка мифического, образного объяснения отличия «ведьмы» от обыкновенных женщин, которых большинство). «К ним прибегают в беде и просят помощи и советов. Если им и приписывают часто злыя, враждебныя действия, то во многих случаях ведун и ведьма для крестьянина необходимы: помощь их вполне удовлетворяет пониманию и требованиям простого человека». Рассматривая ближе народные верования, нельзя не заметить, что в данном случае враждебный характер есть также результат позднейшего влияния, как это замечается и относительно других поверий. В язычестве ведун и ведьма имели благое чистое значение, которое прекрасно раскрывается и филологическими данными и многими остатками древнейших верований в народном быту. Слова ведун и ведьма, вместе со словами ведовство, ветьство, ведомый, происходят от глагола ведать, точно так, как синонимические им слова знахаря и знахарки происходят от глагола знать. От одного корня со словом ведать происходит и слово вещать, что особенно видно из сложных по-ведать и по-вещать (по-вестить), имеющих тождественное значение. Все эти слова имеют близкую связь и объяснение их кроется в языческих преданиях народа. Слова эти создались в эпоху языческого развития и послужили первоначально для выражения религиозных представлений. В словах (предсказывать), в?че (народное собрание, суд), — заключаются понятия: предвидения и прорицаний, сверхъестественного знания свободной поучительной речи и суда. Слова , означающие в современном языке умного, говорливого и проницательного, в древнем языке имели преимущественно значение религиозное, сверхъестественное. У Всеслава, рожденного от волхвования и обращавшегося в различных животных — душа была в теле. Летописец, рассказывая, что В. князь Олег был прозван , прибавляет: «бяху бо людіе погании». Оба эпитета и поганый и нев?глас старинными памятниками употреблялись для означения всего языческого, непросвященного христианством. Ясно, что слово имело религиозный смысл. Этим эпитетом наделен в «Слове о полку» Боян; персты его также названы вещими. Ведуна народ считает тождественным колдуну; — значит волшебство, колдовство; колдуньи в летописи и старинных памятниках называются вещими жонками, бабами кудесницами и женами чаровницами. Таким образом, понятия ведун и ведьма (ведунья) имеют несколько синонимических выражений. Кудесник — чаровник, происходит от слова кудеса (чудеса — чудо, чудный и чудесный, т. е. таинственный, непостижимый). Кудеса теперь означают святочные гаданья и особенный обряд, представляющий остаток древнего жертвоприношения очагу. Чаровникъ — чара, чаровать, чарующий, очаровательный: все эти слова указывают на смысл религиозный. Чарами в народных поверьях обозначаются особенные таинственные обряды, совершаемые для отогнания нечистой силы, излечения болезней, напущения на врага бедствий и т. д. Колдовством теперь называют совершение чар и произнесение заговоров (заговорить то же, что завещать), следовательно, все то, что составляло принадлежность древнего богослужения, ибо чары и заговоры представляют остатки языческих жертвоприношений, очищений, мольбы, гаданий, врачевания и предсказаний. Ко(а)лдунъ, колдовство происходят от славянского корня колд, калд, клуд, куд, и означают сожжение (жертвоприношение), очищение, и того, кто совершает жертву и очищение: филология здесь вполне подтверждает то народное понятие, какое составилось о колдовстве. Наконец, остается еще один важный синоним словам: ведун и кудесник; это — волхвъ, слово, часто встречающееся во временнике Нестора, упоминаемое до сих пор в лубочных сказках и уцелевшее в некоторых провинциальных наречиях. Волхвъ — volho от спкр. валг — светить, блистать как слово жрецъ от . Отсюда видно, что слово волхвъ синоним слову жрецъ; но последнее представляет Славянскую форму, а первое есть имя индоевропейское, следовательно, древнейшее. Слово волхвъ указывает, следовательно, на поклонение свету и на жертвоприношения. Таким образом, из рассмотрения слов, синонимических ведуну и ведьме, находим, что в словах этих лежат понятия сродственные, которые в язычестве имели смысл чисто религиозный, именно понятия: таинственного, сверхъестественного знания, предвидения, предвещаний, гаданий, хитрости или ума, красной и мудрой речи, чаровании, жертвоприношений, очищений, суда и правды, и наконец, врачевания, которое сливалось в язычестве с очищениями. Все приведенные названия, самым значением своим, указывают на служителей божества; названия эти составились, как обозначение тех или других особенно наглядных признаков языческого богослужения: кудесникъ и чаровникъ указывают на таинственность, сверхъестественную силу, творчество; колдунъ, волхвъ и жрецъ — на служение божествам света, жертвоприношения и очищения; наконец ведунъ и знахарь обнимают собою более широкий круг понятий, потому что в корне этих названий лежит ведение, знание. В языческую эпоху народного развития ведение понималось, как чудесный дар божества; весь объем познаний сосредоточивался в умении понимать таинственный язык обожествленной природы, наблюдать и истолковывать ее явления и приметы. Ведение это было высшею премудростию: оно тесно соединяло человека со священными стихиями воды, огня, света, над которыми гадали и предсказывали, которым молились и приносили жертвы, и силою которых раскрывали правду (судили) и совершали очищения. Под понятие ведения подходили все религиозные обряды: это было полное знание языческого богослужения и его значения в Разных случаях жизни. Филологические указания не только вполне подтверждаются поверьями и преданиями народными, но в них получают еще более определенности и ясности. «Волсви и бабы кудесницы богомерзкая и множайшая волшебствуютъ», говорит одна старинная рукопись. «Колдуны, ведьмы, знахари и знахарки до сих пор еще занимаются в разных местах обширной Руси очищениями и врачеваниями, что одно и то же. Болезнь народом рассматривается как нечистая сила, которая после очищения водою и огнем, как стихиями священными, светлыми, спешит удалиться. Народное лечение основывается главным образом на окуривании, сбрызгиваньи или умываньи и дуновении, причем произносятся на болезнь заклятия». «Ведуны представляются стариками, ведьмы — и старухами и молодыми». «Ведьма уносится в трубу в белой сорочке и с распущенными косами; также в одних белых сорочках и распустив косы совершают женщины опахивание. Белая одежда и раскиданные по плечам волосы были необходимы для тех, которые участвовали в служении божествам света. Белый цвет — цвет светлых божеств, потому священный и благотворный. Распущенная коса — символ девственных, полных сил. В христианскую эпоху простоволосие (непокрытая и распущенная коса) стало рассматриваться, как грех». А. Н. Афанасьев дает нам пример объективного, основанного на анализе лингвистических и этнографических фактов, подхода к феномену «ведьмы» как мифа. Ниже мы покажем, что такого рода описание основывается не только на историко-этимологических данных, но и на исследовании целого корпуса специальных текстов, «закрепленных» за данным мифом. А вот пример «вульгарной», народной мифологии — отрывок из книги М. А. Орлова «История сношений человека с дьяволом»: «Ведьма — это баба, связавшаяся с дьяволом и посему устремляющая всю свою деятельность во вред людям. Ведьмы бывают либо естественныя, либо искусственный, т. е. ведьма может родиться на свет, или же, родившись на свет совершенно нормальною женщиною, может стать ведьмою впоследствии. У врожденных ведьм есть примета, вполне их изобличающая,— хвост. Сначала этот придаток бывает величиною не больше пальца, но впоследствии, особенно если ведьма усердно занимается ведьмовством, хвост у нея отрастает и делается такой, как у собаки. Надо еще разъяснить, что прирожденные ведьмы, „родимыя“ считаются существами далеко не столь вредными, как ведьмы „ученыя“; при том же родимыя ведьмы, в сущности, ни в чем не повинны сами по себе, ибо родятся они такими на свет потому, что были либо прокляты, либо заколдованы в то время, когда были еще в утробе матери. Иное дело ведьма ученая. Эта сделалась ведьмою по собственной злой воле с очевидною целью делать зло людям. Родимая же ведьма иногда и вовсе не пользуется своими врожденными талантами или если и пользуется, то несравненно умереннее, нежели ученая. Обычный талант ведьм,— это, прежде всего, способность превращаться, перекидываться во что угодно — в собаку, кошку, птицу. Главным же образом их деятельность сводится к доению чужих коров, задержанию дождя, управлению бурями и ветрами. Иныя сосут кровь у людей. ...Какими способами ведьмы проделывают все эти свои шутки, о том доподлинно никому не известно. Подсматривать же за ними в высшей степени опасно, потому что у того, кто хоть чуть-чуть проникнет в их тайны, они высасывают кровь, и любопытный человек быстро погибает. Однако, по общему убеждению, ведьмы, отправляясь из дому по делам, поступают таким манером. Раздевшись, они намазывают все тело какою-то мазью, потом ставят в печку горшок с какою-то жидкостью. Когда эта жидкость разогреется, от нее начнет валить густой пар, поднимающийся через трубу. В эту минуту ведьма схватывает кочергу или помело, садится на него верхом; пары, идущие из горшка, подхватывают ее и выносят через трубу. С этого момента ведьма может перекидываться во что хочет, может носиться под облаками, переменять ветер, задерживать тучи и т. д... Ведьмы, говорят, часто появляются на перекрестках дорог, там, где ставятся кресты и часовни; с этих мест ведьмы скрадывают звезды; для этого им надо залезть на крест, но непременно вверх ногами». Ту же тему развивает в своей книге о «нечистой» силе С. В. Максимов: «Если внимательно всмотреться в облик ведьмы, в том виде, в каком он рисуется воображению жителей северной лесной половины России, то в глаза невольно бросится существенное различие между великорусской ведьмой и родоначальницей ее — малорусской. Если в малорусских степях среди ведьм очень нередки молодые вдовы и притом, по выражению нашего великого поэта, такие, что „не жаль отдать души за взгляд красотки чернобровой“, то в суровых хвойных лесах, которые сами поют не иначе как в минорном тоне, шаловливые и красивые малороссийские ведьмы превратились в безобразных старух. Их приравнивали здесь к сказочным бабам-ягам, живущим в избушках на курьих ножках, где они, по олонецкому сказанию, вечно кудель прядут и в то же время глазами в поле гусей пасут, а носом (вместо кочерги и ухватов) в печи поваруют». «Великорусских ведьм обыкновенно смешивают с колдунами и представляют себе не иначе как в виде старых, иногда толстых, как кадушка, баб с растрепанными седыми космами, костлявыми руками и с огромными синими носами. (По этим коренным чертам во многих местностях самое имя ведьмы сделалось ругательным). Ведьмы, по общему мнению, отличаются от всех прочих женщин тем, что имеют хвост (маленький) и владеют способностью летать по воздуху на помеле, кочергах, в ступах и т. д... Ведьмы находятся между собою в постоянном общении и стачке (вот для этих-то совещаний и изобретены „лысые“ горы и шумные горы шаловливых вдов с веселыми и страстными чертями), тяжело умирают, мучаясь в страшных судорогах, вызываемых желанием передать кому-нибудь свою науку, и у них после смерти высовывается изо рта язык, необычайно длинный и совсем похожий на лошадиный. Затем начинаются беспокойные ночные похождения из свежих могил на старое пепелище (на лучший случай — отведать блинов, выставляемых за окно до законного сорокового дня, на худший — выместить запоздавшую и неостывшую злобу и свести не поконченные при жизни расчеты с немилыми соседями). Наконец, успокаивает осиновый кол, вбитый в могилу». Какие тексты послужили тому, чтобы создать в массовом сознании целостный образ ведьмы — знающей, но опасной женщины? А. Н. Афанасьев в своем исследовании называет следующие группы текстов: заговоры, песни, загадки; С. В. Максимов добавляет к этому еще советы и различные способы гаданий. Рассмотрим подробнее эти тексты именно с точки зрения их суггестивного воздействия, включения в диалог с массовым сознанием, правополушарной ориентации, поэтичности и т. д. ЗаговорыЭто, по мнению А. Н. Афанасьева, «обломки языческих молений. В заговорах делается обращение к божествам света; тот, кто произносит их, умывается росою и становится на восток солнца красного. Силою заговоров знахари и знахарки уничтожают кручину, прогоняют болезнь, изменяют злобу на любовь, усмиряют несчастную любовь, ревность и гнев, вызывают сочувствие и проч. Колдуны и ведьмы собирают таинственные чудодейственные травы и коренья, приготовляют целебные мази и снадобья; в сказках они являются владетелями живой и мертвой воды, ковра-самолета, чудесных коней. Все рассказанные нами преданья и поверья очень ясно указывают, что некогда колдуны и ведьмы, и именно в язычестве, имели значение не только благотворное, но и богослужебное, т. е. по преданиям и поверьям — они являются служителями богов светлых, чистых. Выше мы указали связь имен ведуна и ведьмы со словами вещать, предвещать, заговаривать. Такая связь основанием своим имеет языческие религиозные убеждения, некогда жившие в Славянине: Богослужение его главным образом выражалось в мольбе и предвещаниях, которые сопровождали собой и жертвоприношения, и гадания, и очищения и игрища. Остатки этих старинных молений и предвещаний уцелели в заговорах, заклятиях, загадках и некоторых народных обрядовых песнях. Священное значение речи, обращенной к божеству или поведающей волю божества, требовало выражения торжественного, стройного; с другой стороны, все народы, на первоначальных младенческих ступенях своего развития, любят песенный склад речи, который звучнее, приятнее говорит слуху и скорее напечатлевается в памяти. Первая молитва у всякого народа была и первым песнопением; в заговорах и заклятиях до сих пор замечается метр и народная рифма; тоже должно сказать о загадках и некоторых старинных пословицах и поговорках». «Относительно призывания чуда также имеется разница между добрыми и злыми. Добрые действуют усердными молитвами и благоговейным произнесением имени Господа. А колдуны и злые употребляют глупое бормотание и призывают демона». «Пища, питье, одежда и след человека чаще всего служили проводниками губительной силы заговора. Заговоры передавались изустно, а иногда и посредством письма; как те, так и другие имели присущие им особенности, по которым и опознавались, причем опознавались не только сведущими людьми, но почти каждым, услыхавшим или прочитавшим их: таково было знание заговоров. ...Вера в слово была глубока в народе; слову приписывали внутреннюю силу, которая могла оказывать влияние иногда даже помимо желания человека, его произносившего; произносимое же с известным намерением, оно как бы усиливалось в своем влиянии и становилось опасным орудием. ...Различавшиеся по своей внутренней силе устные заговоры с внешней стороны по своему строению были похожи между собою: по большей части они отличались несложностью содержания и краткостью изложения; это простое, но определенное выражение какого-нибудь желания, иногда усложненное сравнением: „Чтоб де бы им до замужества теми руками ни ткать, ни прясть“; „как мертвый не вставает, так бы он... не вставал, как у того мертваго тело пропало, так бы он... пропал вовсе“; „как дух по свету ходит, так и ты бы отошел по свету“; „как люди смотрятся в зеркало, так бы муж смотрел на жену, да не насмотрелся; как-де тое соль люди в естве любят, так бы муж жену любил“. Простота приведенных заговорных речений заставляет предполагать, что многие из них составлялись тотчас же, как в них являлась нужда, и представляли собою непосредственное отражение того или другого душевного состояния. Такое заговорное речение в большинстве случаев связывалось с каким-нибудь действием; так, заговор на погибель человека соединялся с хождением на могилу за землею: „ходила... Овдошка ночью на погост, имала с могилы землю и ту землю с приговором давала пить...“ Несложность волшебного действа и простота сохранившихся заговорных речений очевидно могут быть объяснены тем, что как то, так и другое должны были свершаться быстро, украдкою, под страхом кары: не было времени усложнять действия и речи, приходилось выбирать такие слова и совершать такие поступки, которые своею определенностью и отчетливостью прямо бы вели к цели. Судебные дела XVII в. свидетельствуют, что волшебство и заговор не были принадлежностью непременно одного какого-нибудь определенного круга людей или какой-нибудь определенной личности; заговор был нужен и в городе, и в деревне, при царском дворе и в крестьянской семье, при удобном случае ему все учились, и весьма многие его знали. Заговор хранился в семьях: мать передавала его дочери, свекор или свекровь — невестке, сестра — сестре; волшебные слова и действия передавались между односельчанами; иногда учителями были инородцы». А вот еще одно описание заговоров, на сей раз через призму современного мифа — экстрасенсорики: «Заговор — элемент традиционной магии. Раньше считалось, что если он обращен к Богу. Божьей Матери или к святым, то его можно отнести к белой магии, а если — к нечистой силе, то к черной. Однако, существовало много заговоров, обращенных к нейтральным персонажам или к силам природы. Куда их было отнести — непонятно. В то время нередко случалось, что заговор, текст которого был обращен к святым, тем не менее, был направлен во зло. Так же часто встречалось, когда один и тот же маг мог творить и добро и зло. Поэтому маги, деятельность которых была в России запрещена, подвергались наказанию без разбора — как черные, так и белые. Кстати, наиболее частой формой наказания колдунов в России было утопление, правда, иногда случалось и сожжение. Сегодня классификация колдунов происходит несколько по-другому. В зависимости от того, на что направлен заговор — на добро или зло, можно определить: к белой или черной магии он относится, а также от сути человека, который с ним работает. Особенности заговора состоят в том, что он имеет привязку как к определенной территории, так и к национальности, к среде, в которой вырос человек, употребляющий эти заговоры. Так, например, если заговором хочет пользоваться человек, не разговаривающий по-русски, то он должен иметь ассоциативный перевод, вызывающий в нем нужные образы. Чтобы добиться хороших результатов в таком способе лечения, иностранному экстрасенсу нужно будет проговаривать заговор в русской транскрипции, одновременно вызывая соответствующие образы и ощущения, продиктованные переводным текстом, только в том случае не пропадет ни ритмическое, ни смысловое значение заговора. Можно задать вопросы: „Каким образом он работает? Что оказывает влияние на больного, какой механизм?“ Существует несколько предположений. Первое заключается в том, что звуковое, смысловое сочетание рождает вибрации, возбуждающие внимание, энергетические источники, через которые осуществляется воздействие на пациента. Второе предположение состоит в том, что вибрации, рождаемые заговором, создают своего рода энергетический каркас, по которому информация выздоровления от экстрасенса переходит к пациенту прямо в область бессознательного. Третье предположение: звуковое, смысловое и ассоциативное сочетание вызывает в экстрасенсе возбуждение его энергетических центров, которые в конечном итоге оказывают целительное воздействие на больного. Четвертое предположение заключается в том, что звуковое, смысловое и ассоциативное сочетание вызывает в самом пациенте возбуждение его энергетических и информационных центров, которые в конечном итоге оказывают целительное воздействие на него самого. Для овладения таким способом лечения существуют определенные упражнения. Для примера возьмем прекрасно работающий до сегодняшнего дня заговор на остановку крови и сращение тканей: „Во имя Отца, Сына и Святаго Духа, Божья матерь, животворящим крестом своим, живую рану у раба Божьего такого-то, в таком-то месте срасти, кровяное русло останови“. В момент произнесения первой части заговора: „Во имя Отца, Сына и Святаго Духа...“, нужно постараться вызвать в себе ощущение Бога, бесконечного космоса, безграничного духа и разума, силы и мощи, добра и справедливости. Произнося слова: „...Божья матерь, животворящим крестом своим...“, вы должны составить соответствующий образ, при этом не испытывая в себе ощущения мольбы, а испытывая в образе Божьей матери ощущение большого желания помочь, а также большую силу в кресте. Далее говоря: „...Живую рану у раба Божьего такого-то...“, вы должны ярко ощущать место разрыва тканей у больного. При словах: „...срасти, кровяное русло останови“, — нужно вообразить и почувствовать, как под воздействием энергии, тепла, добра и любви, идущих от креста и от Божьей матери, начинают сращиваться ткани, притягивающиеся друг к другу ее части склеиваются, место становится гладким, а кровь в этот момент сочится все меньше и меньше и, наконец, прекращается совсем. Нужно удержать три ощущения, порождаемые образами: самого больного, Божьей матери с крестом и непосредственно раны. От всего этого рождается определенное состояние энергетики между экстрасенсом и пациентом, которое и несет целебное воздействие. При большой практике работы с заговорами нужда в использовании образов постепенно отпадает и, в конечном итоге, проговаривание текста сразу может вызвать необходимое состояние. Но пока вырабатывается данный рефлекс, без ассоциативно образной связи вам не обойтись. Кроме того, используя заговор, вы должны его слышать и чувствовать не в себе и не возле себя, а как бы в самой ране из самого пациента, т. е. образы и чувства, которые вы породили, нужно поместить в больное место». Песни«Песня, как и заговор, получила у Славянина чудесную, чародейную силу, которою боги вызываются на помощь и покровительство. ...Славяне приписывали песням целебное свойство от всех болезней и душевных недугов. Музыка у всех народов, в их первоначальном быту, считалась даром светлых божеств: они-то научают этому сладостному искусству. Лужицкое gusslowasch — колдовать, gusslowar — колдун, и Польское gusla — колдовство сродни с нашим словом: гусли. Певцы, скоморохи возсылали мольбы, произносили заклятия и заговоры, делали предсказания. От того-то Боян, внук Велесов, назван вещим, смысленным. Такое значение песни, музыки и пляски объясняет, почему христианство посмотрело на них так неприязненно, назвало их бесовским делом. В песнях, музыке и пляске оно справедливо видело остатки язычества. В стихах о Страшном суде поется, что грешникам, осужденным на вечную муку, будет сказано: „вы в гусли-свирели играли, скакали, плясали, все ради дьявола“. На лубошной картине, изображающей скомороха, встречаем знаменательную надпись: „Бог создал iepeя, a дьявол — скомороха“. Сопоставление скомороха с иереем прямо указывает на богослужебное значение первого во время язычества». «Г. Сахаров напечатал четыре песни, приписываемые ведьмам: одну они поют при полете на Лысую гору, другую — на самой Лысой горе, две — на шабаше, из них одну — на роковом шабаше. Об этих песнях существует такое поверье, что они известны одним ведьмам и знахарям. Песня, которую поют на роковом шабаше, может обогатить того, кто ее пропоет; а слово „абракадабра“, наполняющее собою одну из ведовских песен, имеет силу исцелять от лихорадки (прогонять эту болезнь). Отправляясь на игрища и при самом их совершении, ведьмы пели таинственные песни, силою которых ниспосылалось на человека здоровье и богатство. Песни, подобно заговорам, представляли в язычестве моления, и потому получили чудесное свойство вызывать божества к дарованию всяких благ. К сожалению, язык этих ведовских песен — непонятен (неужели звуки этих песен ничего более не представляют, как смесь странных, непонятных слов?); между прочими, в них часто слышатся звуки: аа! уу! оо! ее! згинь! мяу! Подобные восклицания раздаются и при совершении обряда опахивания. Что песни эти понятны и знакомы только колдунам и ведьмам: это поверье знаменательно. Знахарям главным образом известны и заговоры и шептанья, составляющие их тайну». Загадка«...Когда божества из простых явлений природы облекаются в человеческие формы, получают субъективность и все человеческие страсти и побуждения, тогда миф затемняется, и те выражения, которые понятны в приложении к простому явлению природы, делаются загадочными в отношении к его персонификации. Язык религиозный принимает характер таинственный: является заговор и загадка. Знать смысл мифов язычества, понимать язык заговоров и загадок уже не могут все, а только некоторые избранные, посвятившие себя этому таинственному знанію. Мало-помалу, путем чисто фактическим, начинают выделяться из народа люди, одаренные большими способностями, и пользующиеся потому большим влиянием. Действуя более или менее под религиозным увлечением, они являются народными учителями и предвещателями: им понятен смысл древних мифов и религиозного языка, они в силах разгадывать и объяснять всякие предметы и гадания, они знают таинственную силу трав и очищений, они могут совершать все чародейною силою заговора. Это — ведуны и ведуньи. ...В народе рождается убеждение, что они, как близкие к божествам и понимающие их знамения, одарены даром предвидения, знают волю богов и могут открывать правду. Ведун, следовательно, есть тот, кто более знает религиозные тайны, кто дарованиями своими (умом, речью, поэтическим даром) возвышается над всеми другими. К подобным вещим людям и начинает прибегать народ в нужде для испрошения помощи и совета. Помощь ведуна и ведуньи состояла в том, что они возносили богам молитвы и приносили жертвы, ибо им известна была могучая сила мольбы (впоследствии — заговоров, нашептываний и заклятий), жертвы (впоследствии — чар) и связанных с ними очищений». Угрозы и похвальные речи«Кроме заговоров, выраженных в определенном виде пожелания, смысл и значения заговора имели также угрозы и похвальные речи, если их следствием были болезнь или смерть того, к кому они относились. Такие речи также заносились в судебные бумаги, и на их основании строилось обвинительное решение. Некрасова жена, Дарьица „на того Евтифея похвалилася: 'И сделаю де — его токова черна, как в избе черен потолок, и согнется так, как серп согнулся'. И после-де той Дарьицыной похвалки тот Евтюшка заболел вскоре и три года ходя сох и сохши умер“. Та же Дарьица сказала: „...что-де Федька у меня корчится, а и Лукьяну Федотову сыну корчиться от меня также“, „оборочу-де я их (братьев Фурсовых) вверх носом и будут-де они у меня в четырех углах...“ Федька заболел, а братья слегли и, полежав немного, померли. Похвальбы Дарьицы были точно воспроизведены в судебных бумагах, подобно заговорным речениям». «В бриксенской епархии есть одно местечко, где один молодой человек рассказал такой случай о своей жене, которая была околдована: „В юности, — сказал он, — я любил одну девушку, и она настаивала на том, чтобы я женился на ней, но я опозорил ее и женился на другой, из другого округа; желая, однако, ради дружбы угодить ей, я пригласил на свадьбу и ту девушку. Она пришла, и в то время, как другие почтенные женщины принесли подарки, она подняла руку и сказала моей жене так, что окружающие женщины могли слышать: 'После этого дня ты будешь здорова лишь несколько дней'. И когда моя жена, не знавшая ее, потому что, как сказано, была взята из другого округа, испуганная, спросила присутствующих, кто та, что так ей грозила, ей ответили, что это бродячая распутная женщина. Ее предсказание сбылось через несколько дней: жена была так околдована и расслаблена во всех членах, что даже до настоящего времени, после более десяти лет, она ощущает в своем теле колдовство“». Советы«Крестьянин Орловской губернии тяжко провинился перед новобрачной женой и, чтобы как-нибудь поправить дело, обратился за советом к старухе-знахарке, о которой шла молва как о заведомой ведьме. Знахарка посоветовала своему пациенту пойти в луга и отыскать между стожарами (колья, на которых крепятся стоги сена) три штуки таких, которые простояли вбитыми в землю не менее трех лет; затем наскоблить с каждой стороны стружек, заварить их в горшке и пить. А вот еще случай из практики ворожей. — От соседей нет мне промытой воды, — жаловалась также известной ведьме одна девушка, служившая у богатого купца, — обещал взять замуж, да и обманул. Все смеются, даже малые ребята. — Ты только принеси мне лоскут от его рубахи, — обнадеживала ее ведьма, — я отдам церковному сторожу, чтобы он, как станет звонить, навязал на веревку этот клок; тогда купец к тебе придет, а ты посмейся ему: я, мол, не звала тебя, зачем пришел?.. Жаловалась и другая бедная девушка, пожелавшая выйти за богатого крестьянина, которому она не нравилась. — Ты, если можно, достань его чулки с ног, — присоветовала ведьма. — Я отстираю их и наговорю воду ночью и дам тебе три зерна: одно бросишь против его дома, а другое ему под ноги, когда будет ехать, третье — когда он придет... Случаев таких в практике деревенских ведьм бесконечно много, но замечательно, что знахарки и ведьмы воистину неистощимы в Разнообразии своих рецептов. Вот еще несколько образчиков. Любит мужик чужую бабу. Жена просит совета. — Посматривай на двор, где петухи дерутся, — рекомендует ведьма, — возьми на том месте земельки горсточку и посыпь ее на постель твоей разлучницы. Станет она с мужем твоим вздорить, и пять полюбит он свой „закон“ (т. е. жену). Для прилуки девиц советуют вынашивать под левой мышкой в течение нескольких дней баранки или пряники и яблоки, конечно прежде всего, снабженные наговорами, в которых и заключена главнейшая, тайно действующая сила». Таким образом, мы видим, что корпус текстов, которыми под. держивается диалог ведьм и массового сознания, достаточно разнообразен и характеризуется рядом особенностей. Ведьма как мифологическая личность может быть описана следующим образом: 1) Неординарная внешность (либо красивая девушка, либо безобразная старуха). 2) Обладает особыми знаниями и даром красноречия. Верит в силу слова. 3) Оригинально мыслит: неистощимая выдумка. 4) Уверена в своем избранничестве. Отсюда — нестандартное поведение. 5) Обладает качествами победителя (идет по пути воина), порождает в людях страх и благоговение. Тексты ведьм характеризуются следующими особенностями: 1) Образность и поэтичность (метр и народная рифма). 2) Обращение к светлым и темным силам. 3) Использование непонятных, иноязычных слов. 4) Применение сравнений, метафор и др. художественных приемов. Олицетворение. 5) Отражение конкретных душевных состояний и действий. 6) Использование элементов молитв и древних языческих молений. 7) Пропевание текстов — усиление их эмоционального воздействия. 8) Использование фраз со множеством степеней свободы. 9) Алогичность; случайное соединение предметов, явлений и слов. 10) Воздействие на отрицательные эмоции. Таким образом, соответствие личности ведьмы порождаемым ею текстам гарантирует успешность функционирования данного мифа. В сущности, воздействие ведовское суггестивно, правополушарно, ориентировано на отрицательные эмоции. Как и в случае с инвективами, глумление или намеренное оскорбление женщины словом «ведьма» свидетельствует о неосознаваемым человеком «глубоком преклонении перед поносимым сакральным понятием». Почему так живуч миф ведьмы, равно как и вера в заговоры? По-видимому, здесь дело в том, что человечество развило в себе защитный механизм: инстинкт страха, о котором образно написал Л. Рон Хаббард, вкладывая эти слова в уста этнолога Джеймса Лоури: «В Китае даже тогда, когда были открыты медицинские средства, с помощью которых можно было сбить температуру или ослабить боль, в народе это приписывали тому, что демону болезни якобы неприятна именно эта лечебная трава или магическое воздействие ритуала. Да и сами лекари долгое время прибегали к ритуалам, во-первых, потому что и они были отчасти не чужды суевериям, а во-вторых, психологическое состояние пациента — один из мощных рычагов воздействия — улучшалось, когда лечение проводилось в соответствии с разумением самого больного. В любой культуре медицина начинает свою историю с ударов шамана в бубен, при помощи которого шаман стремится изгнать из больного дьявола. Подверженность человека болезням как ничто другое подтверждала существование духов и демонов, так как сплошь и рядом между здоровыми и больными не наблюдалось никаких внешних различий, а то, что человек не в состоянии увидеть, он приписывает дьяволам и демонам. И благодаря тому, что эти представления столь глубоко укоренились в сознании наших предков, никто из нас и по сей день до конца не уверен, не содержат ли эти древние верования долю истины. Среди вас наверняка найдется с десяток таких, кто носит амулеты и верит в их силу. Вы называете их талисманами, их подарили вам любимая или любимый или же они достались вам по воле случая, который навсегда остался для вас загадкой. Значит, вы почти уверовали в богиню удачи. Вы почти уверовали в бога несчастья. Вы не раз замечали, что стоит вам решить, будто вы неуязвимы, как все идет кувырком. Сказать вслух, что вы никогда не болеете, значит накликать болезнь. Не правда ли, вам знакомы ребята, которые были не прочь прихвастнуть, что никогда не попадали в аварии — а потом вам приходилось навещать их в больницах? И если бы вы в это вовсе не верили, стали бы вы нервно озираться по сторонам в поисках дерева, по которому можно постучать, если вы похвалились своим везением? Современный мир, где господствуют материалистические „объяснения“, не изобрел, однако механизма, гарантирующего удачу; он не сформировал закона, управляющего человеческой судьбой. Будучи людьми образованными, мы устами отрицаем суеверия, однако украдкой озираемся в страхе перед опасностью, которая может в любой момент наброситься на нас из темной бездны. Почему? Неужели и вправду существуют демоны, дьяволы и Духи, чья ревнивая злоба способна причинить людям вред? Или вопреки теории вероятности, объясняющей закономерности совпадения, мы все-таки станем утверждать, что Человечество само навлекает на себя несчастья? Есть ли в мире силы, которые нам не Дано познать? А может... в каждом из нас притаился инстинкт, который в суете нынешней жизни так и остается в зачаточном состоянии? Что если наши предки со свойственным им обостренным чувством опасности — ведь они не могли укрыться от ветра и не знали, как бороться с темнотой — специально развивали в себе этот инстинкт? А поскольку мы пренебрегаем оттачиванием наших восприятий, не стали ли мы „слепы“ в отношении материальных сил? И не бывает ли так, что в какой-то момент этот инстинкт оживает в нас и, подобно вспышке молнии, высвечивает все то, что угрожает нашему благополучию? Детьми все мы знали, что в темноте гнездятся призраки. Так, может быть, в ребенке, чей мозг еще не отягощен чрезмерным грузом фактов, фактов и еще раз фактов, этот инстинкт не раздавлен? А разве нет среди нас таких, кто состоит в контакте со сверхъестественными силами, но не может открыться и объяснить окружающим, что это такое, ибо ему не поверят, ведь мало в ком развит подобный инстинкт?». Миф ведьмы и есть попытка посредничества между человечеством и его страхом. «Ведьма — это претворенный в миф страх мужчины перед женщиной и сомнение женщины в собственных силах. Образ ведьмы соединил все: тут и женская свобода, могущество, сексуальность и женские страдания, муки, корчи в языках костра: ведь женщины чувствуют, что стоит им познать свободу, использовать могущество, сексуальность, и — их ждет жестокое возмездие. Ведьма — это мечты о необузданных женских ласках, ведьма — это мгновенная и неминуемая кара за любовь и свободу. Образ ведьмы всеобъемлющ, потому ее могущество столь велико. Она — символ желанного преступления и неизбежного наказания». И все-таки современники, как и предки, верят в ее чары, в ее магические тексты силы: «Только знающие и избранные ведьмы болтают не на ветер заговорные слова, и закладывают в наговоренные вещи именно то, что потом будет врачевать, успокаивать и утешать, по желанию. Точно самым целебным зельем наполняется наболевшее сердце, когда слышат уши о пожелании, чтобы тоска, давившая до сих пор, уходила прочь „ни в пень, ни в коренье, ни в грязи топучи, ни в ключи кипучи“, а именно, в того человека, который оскорбил, разлюбил или обманул обещаниями и т. п. Для влюбленных ведьмы знают такие слова, что, кажется, лучше и слаще их и придумать никому нельзя. Они посылают присуху „в ретивые сердца, в тело белое, в печень черную, в грудь горячую, в голову буйную, в серединную жилу и во все 70 суставов, в самую любовную кость. Пусть эта самая присуха зажгла бы ретивое сердце и вскипятила горячую кровь, да так, чтобы нельзя было ни в питье ее запить, ни в еде заесть, сном не заспать, водой не смывать, гульбой не загулять, слезами не заплакать“ и т. п. Только исходя из уст ведьмы, слова эти имеют силу „печатать“ чужое сердце и запирать его на замок, но и то лишь в том случае, когда при этом имеются в руках наговорные коренья, волосы любимого человека, клочок его одежды и т. п. Всякому обещанию верят и всякое приказание исполняют: подкладывают молодым ребятам голик под сани, если желают, чтобы кто-нибудь из них в текущем году не женился, сжигают его волосы, чтобы он целый год ходил как потерянный. Если же выпачкать ему поддевку или шубу бараньей кровью, то и вовсе его никто любить не будет». И меняется вокруг мир... Миф ведьмы живет: «Во все века люди боялись ведьм. Они уничтожали их. Но душа ведьмы живет вечно...» Глава 6. Трудно ли стать богом? (создание суггестивной роли в процессе коммуникации)
Исследователи мифов, в той или иной степени, рассматривают, прежде всего, центральную суггестивную роль — роль Божества. Напомним, что А. Б. Добрович сравнивал роль Божества с белым солнечным светом: «Притягательно, но и страшно Божество. В нем сверхчеловеческая мощь и власть, недосягаемая мудрость, непостижимое право карать или миловать... Перед ним остается лишь лечь лицом в пыль и с благоговейной покорностью ждать своей участи». И вновь перед нами амбивалентный образ. Бог мудр, но страшен. Миф Иисуса ХристаПопытаемся разобраться, каким образом формируются божественные мифы, и сделаем это, прежде всего, на примере ключевого христианского мифа — мифа Иисуса. Мы уже говорили о том, что миф выполняет роль мета-языка (посредника, медиатора) между двумя противоположностями: здоровьем и болезнью, личностью и обществом, известным и непознанным. В таком случае образ Богочеловека объединяет противоположность между понятиями смерти и бессмертия. «В развернувшихся в V-VII вв. христологических спорах личность Христа получает толкование как воплощение такого чистого единства божественного и человеческого начал, которое, с одной стороны, не допускает простого соединения этих противоположных начал, а с другой — выражает их полноту и неразрывность не через смешение сущностей, но через единство лица. Тайна такой двойственности в единстве лица, более того, ее логическая неизбежность становится ясной, если рассматривать образ Христа в свете представлений о „медиаторе“, способном превращать желаемое в действительное, соединять первое с последним, конечное с бесконечным, ограниченное время жизни человека с жизнью вечной и т. п. Христос есть Сын Божий и сын человеческий, по словам В. С. Соловьева он воплощает в себе „соединение божественного и человеческого элементов“». «Единственный в своем роде пример соединения мифа и истории, несомненно, представляют евангельские события, центром которых является воплотившийся Бог-Слово. Он же есть вместе с тем родившийся при Тиберии и пострадавший при Понтии Пилате человек Иисус: история становится здесь непосредственной и величайшей мистерией, зримой очами веры, история и миф совпадают, сливаются через акт боговоплощения». Ту же мысль развивает Н. А. Бердяев в работе «Философия свободного духа»: «В основе христианской философии, сколько бы она ни оперировала понятиями, лежит величайший центральный миф человечества, миф об Искуплении и Искупителе». Поскольку мифотворчество — это «богодейство» и «есть не единичный, но многократно повторяющийся акт» (С. Н. Булгаков), существуют разные способы его проявления. «По своей теургической природе миф имеет необходимую связь с культом как системой сакральных и теургических действий, богодейством и богослужением... Культ есть переживаемый миф,— миф в действии. Отсюда универсальное значение богослужения, культа во всякой религии, ибо его живая, реальная символика есть не только средство для упражнения благочестия, но и сердце религии, и око ее, — активное мифотворчество... Для верующих культ совершенно реальное богодейство, переживаемый миф или мифологизирование действительности. Правда, оно ограничено местом (храм, священные места), предметами (святыми) и временем (богослужение, священные времена), оно образует, поэтому лишь теургические точки на линии времени. Культ создает предварение и частичное переживание божественного в эмпирическом, притом, как и все в религии, не отвлеченно, не „вообще“, но окачествованно, конкретно, в связи с определенным мифом-догматом. Поэтому богослужение, культ есть живая догматика, мифы и догматы в действии, в жизни. Отсюда понятна всеобщая Распространенность культа, ибо нет религии без культа, это можно выставить как аксиому; и разнообразию религий соответствует и разнообразие культов, а миграция религий сопровождается и миграцией культов. Вместе с тем культ есть и средство постоянного догматического поучения, оживления догматических истин. Можно сказать, живо и жизненно в религии только то, что есть в культе, а отмирает или нежизнеспособным является то, чего нет в культе». Культ как миф в действии, включает в себя ряд составляющих: 1) литургия (символика, выражаемая в слове): молитвы, церковные песнопения, обряды, проповеди; 2) иконография («помимо религиозного значения иконы, как таковой, этого мифа-вещи, в которой эмирическая видность таинственного соединяется с трансцендентной сущностью, она всегда имеет вполне определенное содержание, это есть мифология в красках, камне или мраморе»); 3) символические действия, имеющие теургическое значение: чин богослужения, жертвы, таинства. «В богослужебном ритуале, естественно возникающем в каждой религии, символически переживается содержание мифа, догмат становится не формулой, но живым религиозным символом. Самое центральное место в культе занимают, конечно, таинства. Таинственный характер, согласно указанному, принадлежит, строго говоря, всему богослужению, однако эта таинственность сгущается и, так сказать, кристаллизуется в отдельных актах, которые и составляют таинства в собственном смысле». Миф воплощается, прежде всего, в слове: «в начале бе Слово», что позволяет «настраивать» последующие мифы — создавать единый текст, включенный в историю и культуру общества: «Человеческую историю можно представить как историю сменяющихся знаковых систем. Это представление предполагает существование некоей исходной точки, первознака, архитипической схемы, которая обнаруживается, прежде всего, в ритуально-мифологических системах». Совершенная определенность есть точка, и такой точкой можно считать имя Бога. Новые знаки (новые мифы) расширяют эту точку, конкретизируют ее и одновременно увеличивают ее «неопределенность». Так, например, «Св. Грааль является в мир как новый знак, новый энергетический принцип, творящий новую историю — историю Спасения — как новую знаковую систему. Новый знак образует старую „знаковую систему“»... К заключенному в темнице Иосифу является Христос, передает ему сосуд, содержащий его кровь, и сообщает Иосифу «тайны Грааля». В этой истории выделяются три основных момента: 1) тайны Грааля; 2) обстоятельства передачи этих тайн; 3) Грааль как центр Истории Спасения. «Прообразом темницы Иосифа является гробница Христа. ...Темница, в которую заключен Иосиф, становится „местом откровения“, местом „явления света во тьме“, так же, как гробница Христа явилась „местом“ максимального „сгущения“ тьмы и последующего ее „прорыва“ в Воскресении (смертью смерть поправ). Предсказание Иисусом своей смерти, близящейся победы над князем мира сего, и в особенности, последние и самые трагические слова на кресте „Боже Мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?“, и еще более, сказанные во время гефсиманского моления, „да минует Меня чаша сия“, свидетельствует о том, что весь путь Христа и его смерть были „подготовкой“ к тайному деянию, которое было совершено в „последней“ глубине тьмы, символизируемой гробницей. Движение, которое приводит к сгущению тьмы, вызвано явлением света, поскольку сама в себе тьма инертна, пассивна, недвижна, лишена вообще существования. Мифологические описания хаоса, первотьмы, воды подчеркивают, прежде всего, бесформенность этого первоэлемента, т. е. его нереальность. Воскресший Христос как бы переходит из глубины тьмы, прорывая ее, на периферию, символизируемую темницей Иосифа. Эта „периферия“ соответственно „становится и центром хаотических, враждебных человеку сил“, в данном случае темницей. Явление Христа Иосифу в темнице можно представить как переход с архетипического уровня на исторический. Архетипическое Деяние, с одной стороны, через апостолов, и с другой, через Иосифа и Грааль, становится конкретным историческим процессом, т. е. Историей Спасения. На архетипическом уровне тьма, сгущаясь, пытается затушить свет, т. е. не допустить его „выход“ — Воскрешение. На „историческом“ победивший тьму свет своим первым появлением в мире производит „сгущение“ тьмы и соответствующую поляризацию всех „размытых“ в энтропическом процессе форм. Форма — энергетична. Поэтому истощение энергонапряженности должно необходимо приводить к „размыванию“ формы, сливанию ее с первостихией. „Поляризация“ в этом отношении означает восстановление расплывшихся форм, структурным принципом которых является бинарная противоположность. И в том и другом случае — архетипическом и „историческом“ — „явление света во тьме“ не может быть иным, как процессом сокрытым, недоступным и абсолютно непроницаемым для созерцания»,— таким образом трактует миф о тайнах Грааля М. Евзлин. Следует отметить, что тексты, являющиеся точкой отсчета (например, Евангелия) внутренне противоречивы, что и является причиной многочисленных споров. На такого рода противоречия указывает Б. Рассел в работе «Почему я не христианин». Но прежде Рассел уточняет значение слова «христианин» (обозначает точку отсчета). Для него христианин — это не просто человек, старающийся вести добропорядочный образ жизни. Рассел называет два пункта, принятие которых совершенно обязательно для всякого, кто называет себя христианином: «Первый пункт — догматического порядка — заключается в том, что вы должны верить в бога и бессмертие. Если вы не верите в эти две вещи, то, по моему мнению, вы не вправе называться христианином. Во-вторых, как явствует из самого слова „христианин“, вы должны разделять известного рода веру в Христа, ...в то, что Христос был если и не божественной личностью, то, по крайней мере, самым лучшим и мудрейшим из людей». С одной стороны Б. Рассел считает, что «найдется очень много пунктов, в которых я соглашаюсь с Христом гораздо больше, чем люди, исповедующие христианство», и приводит следующие положения Евангелия от Матфея: «...не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую...»; «не судите, да не судимы будете»; «просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся»; «...если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим...». С другой стороны, рассматривая вопрос о личности Христа в нравственном плане, Рассел замечает, что сам Иисус не всегда следовал собственным заповедям, хотя и был первым христианином (точкой отсчета). «В нравственном облике Христа имеется, на мой взгляд, один весьма серьезный изъян, и заключается он в том, что Христос верил в ад. Я не могу представить себе, чтобы какой-нибудь человек, действительно отличающийся глубокой человечностью, мог верить в вечную кару. А Христос, как он изображен в Евангелиях, несомненно, верил в вечное наказание, и мы неоднократно находим места, в которых он исполнен мстительной злобы против людей, не желавших слушать его проповеди,— отношение к инакомыслящим, которое отнюдь не является необычным у проповедников, но которое несколько умаляет величие такой исключительной личности, как Христос. Вы не обнаружите подобного отношения к инакомыслящим, например, у Сократа. Сократ относился к людям, не желавшим его слушать, добросердечно и снисходительно; и такое отношение представляется мне гораздо более достойным поведением для мудреца, чем гнев. А в Евангелиях вы найдете, что Христос говорил: „Змии, порождения ехидны! Как убежите вы от осуждения в Геенну?“. Эти слова были обращены к людям, которые не приходили в восторг от его проповедей. Это никак нельзя, по-моему, признать наилучшим тоном, а в Евангелиях есть очень много подобных мест об аде. И, прежде всего, разумеется, известное место о прегрешении против святого духа: „...если же кто скажет на духа святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем“. Это место причинило миру неисчислимые страдания, ибо люди всех состояний и положений вбили себе в голову, что они совершили грех против святого духа, который не простится им ни в сем мире, ни в будущем. Я отнюдь, действительно, не думаю, чтобы человек, по своей природе наделенный в какой-то мере добротой, стал сеять подобные страхи и ужасы в нашем мире. Далее Христос говорит: „Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов“; и он еще долго продолжает говорить относительно плача и скрежета зубов. Это повторяется во многих стихах, и для читателя становится совершенно очевидным, что Христос предвещает плач и скрежет зубовный не без некоторого удовольствия, иначе он не заводил бы об этом разговоров так часто. Затем все вы, конечно, помните место про овец и козлов; как он в свое второе пришествие собирается отделить овец от козлов и сказать козлам: „...идите от меня, проклятые, в огонь вечный...“. А далее он снова говорит: „И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает“. Эта тема тоже повторяется много раз. Я вынужден заявить, что вся эта доктрина, будто адский огонь является наказанием за грехи, представляется мне доктриной жестокости. Это Доктрина, которая посеяла в мире жестокость и принесла для многих поколений человеческого рода жестокие муки; и Христос евангелий, если принять то, что рассказывают о нем его же собственные летописцы, несомненно, должен быть признан частично ответственным за это. В евангелиях есть и другие, менее значительные вещи того же порядка. Возьмите странный рассказ про смоковницу, который меня самого всякий раз совершенно озадачивал. Вы помните, что случилось со смоковницей. „Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев; ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И... Петр говорит ему: Равви! посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!“. Это действительно весьма странный рассказ, ибо дело происходило в такое время года, когда смоквы еще не созревают, и дерево было совершенно неповинным. Словом, я решительно отказываюсь признать, что в вопросах мудрости или в делах добродетели Христос занимает такое же высокое место, как некоторые другие люди, известные нам из истории. Мне думается, что я лично поставил бы Будду и Сократа в обоих этих отношениях выше Христа». И еще один фактор отмечает Б. Рассел в своем докладе: «Люди принимают религию из эмоциональных побуждений. Часто нас уверяют, что нападать на религию весьма пагубно, ибо религия делает людей добродушными. ...А я полагаю, что как раз те люди, которые придерживались христианской религии, и отмечались в большинстве своем вопиющей порочностью. Вы признаете, разумеется, тот любопытный факт, что, чем сильнее были религиозные чувства и глубже догматические верования в течение того или иного периода истории, тем большей жестокостью был отмечен этот период и тем хуже оказывалось положение дел. В так называемые века веры, когда люди действительно верили в христианскую религию во всей ее полноте, существовала инквизиция с ее пытками; миллионы несчастных женщин были сожжены на кострах как ведьмы; и не было такого рода жестокости, которая не была бы пущена в ход против всех слоев населения во имя религии». «Религия основана, на мой взгляд, прежде всего, и главным образом на страхе. Частью это ужас перед неведомым, а частью... желание чувствовать, что у тебя есть своего рода старший брат, который постоит за тебя во всех бедах и злоключениях. Страх — вот что лежит в основе всего этого явления, страх перед таинственным, страх перед неудачей, страх перед смертью. А так как страх является прародителем жестокости, то неудивительно, что жестокость и религия шагали рука об руку. Потому что основа у них обеих одна и та же — страх». Итак, все черты, отмеченные Б. Расселом, можно отнести и к суггестивной роли Божества: амбивалентность образа — сверхчеловеческая мощь и власть, но подверженность истинно человеческим слабостям, недосягаемая мудрость, непостижимое право карать или миловать. Тут же воздействие на эмоции, прежде всего, отрицательные (не случайно так мстителен всемогущий Бог, и вовсе не собирается подставлять обе щеки ударяющему, и судит, судит...). Страх нужен вере, иначе это уже не Божество, а чудак-Сократ, разгуливающий по улицам и болтающий доброжелательно с самыми разными людьми. Нужен ли такой Бог? Да. Необходим. Он означает и принадлежность к христианскому эгрегору, и наличие чувства защищенности, и обладание ангелом-хранителем. В той мере, в какой действия людей при наступлении событий, несущих трагические следствия, отрабатывались веками и тысячелетиями, «они как неотъемлемая часть передаваемого из поколения в поколение жизненного опыта становились привычкой, не требующей вмешательства сознания. Программа таких действий, „записанная“ в памяти человека, уходит в подсознание, они совершаются как бы автоматически, с выключенным по отношению к ним сознанием». Таким образом, вера в Бога, основанная на внедренном с помощью набора различных средств мифе, является тем же защитным механизмом от инстинкта страха, что и множество реакций, именуемых суевериями. «Умение совершать не контролируемые сознанием, подсознательные мгновенные действия особенно важно в экстремальных, угрожающих жизни ситуациях. По многим свидетельствам, страх ожидания опасных событий иногда переживается значительно острее, чем эти события. Привычка вырабатывает стереотипы не только в умении совершать определенные телесные действия, но и в самом образе мыслей. Страх ожидания беды, неуверенность в завтрашнем дне может воскресить ушедшую в подсознание веру в существование могущественной сверхъестественной силы, способной при благосклонном отношении к судьбе человека устранить возможные неприятности. Но тем самым такая вера рождает возможность освобождения от животного инстинктивного чувства страха, в том числе страха за свою безопасность, страха перед собственной смертью. Она порождает надежду достичь непостижимого». Как и в случае с другими мифами, христианство пытается ответить на ряд мировоззренческих вопросов с помощью посредника. И ответить эмоционально, используя такие особенности человеческого ума, как способность к воображению, озарению, интуитивным догадкам. Эти посредники двойственны по природе, несут в себе «единство чувственного и сверхчувственного, естественного и сверхъестественного», что характерно «не только для христианства, но и для других религий и традиционных верований. Через посредство пророков, которые будучи людьми вместе с тем обладают чудотворной способностью слышать голос Бога, общаться с ним, простые смертные люди получают возможность узнавать о божественных установлениях, об угодных Богу нормах поведения в земной жизни, соблюдение которых обеспечит благосклонное отношение к ним в этой жизни и после перехода в загробный мир. Представления о сверхъестественном общении шамана с духами умерших предков, о его способности выполнять роль „медиума“, превращающего больного человека в здорового и т. п., широко распространены среди многих народов Африки, Северной и Восточной Азии, индейцев, эвенков и др. Аналогия между шаманом и средневековым алхимиком с его философским камнем (медиумом, медикаментом) напрашивается сама собой». И здесь, безусловно, выигрывает посредник-человек (имясловный) по сравнению с посредником-понятием, посредником-явлением или посредником-классом. Попытка марксистов «предложить вместо религиозных представлений реальный, а не вымышленный путь преобразования общества, ведущий к достижению всеобщего благосостояния, лежала в общем русле стремления заменить вымышленного посредника объективно существующим. Таким посредником вместо смертью поправшего смерть богочеловека Иисуса Христа был провозглашен пролетариат». Но пролетариат — это нечто неопределенное, хотя и не менее страшное, судя по лозунгам типа «Если враг не сдается — его уничтожают». Миф В. И. ЛенинаПролетариат, в конечном итоге, оказался только лишь движущей силой революции (по сути — пролетарская масса), а в истории остались вполне конкретные личности: вожди пролетариата В. И. Ленин, И. В. Сталин. Судя по воспоминаниям соратников, В. И. Ленин задолго до 1917 г. начал заботиться о создании соответствующего собственного амбивалентного мифа. Так, Н. Валентинов в книге «Недорисованный портрет» отмечает следующие факты биографии и характера пролетарского лидера, описывая два особых психологических состояния Ленина: «Это — состояние „ража“, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения и следующее за ним состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания, депрессии. Именно эти перемежающиеся состояния были характерными чертами его психологической структуры. В „нормальном“ состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни, без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Он не курил, не выносил алкоголя, заботился о своем здоровье, для этого ежедневно занимался гимнастикой. Он — воплощение порядка и аккуратности. Каждое утро, перед тем как начать читать газеты, писать, работать, Ленин, с тряпкой в руках, наводил порядок на своем письменном столе, среди своих книг. Плохо держащуюся пуговицу пиджака или брюк укреплял собственноручно, не обращаясь к Крупской. Пятно на костюме старался вывести немедленно бензином. Свой велосипед держал в такой чистоте, словно это был хирургический инструмент. В этом „нормальном“ состоянии Ленин представляется наблюдателю трезвейшим, уравновешенным, „благонравным“, без каких-либо страстей человеком, которому претит беспорядочная жизнь, особенно жизнь богемы... Это равновесие, это „нормальное“ состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. Он всегда уходил из него, бросаясь в целиком его захватывающие „увлечения“. Они окрашены совершенно особым аффектом. В них всегда элемент неистовства, потери меры, азарта. Крупская крайне метко называла их „ражем“ (как она говорила — „ражью“). В течение его ссылки в Сибирь можно хорошо проследить чередование разных видов ленинского „ража“. Купив в Минусинске коньки, он и утром, и вечером бегает на реку кататься, „поражает“ (слова Крупской) жителей села Шушенского „разными гигантскими шагами и испанскими прыжками“. „Он любил с нами состязаться“, — пишет Лепешинский. — „Кто со мною вперегонки?“ И впереди всех несется Ильич, напрягающий всю свою волю, все свои мышцы, лишь бы победить, во что бы то ни стало и каким угодно напряжением сил. Другой „раж“ — охотничий. Ленин обзавелся ружьем, собакой и до изнеможения рыщет по лесам, полям, оврагам, отыскивая дичь. Он отдается охоте, говорит тот же Лепешинский, с таким „пылом страсти“, что в поисках дичи был способен пробегать в день „по кочкам и болотам сорок верст“. Шахматы — третий „раж“. Он мог сидеть за шахматами с утра до поздней ночи, и игра до такой степени заполняла его мозг, что он бредил во сне... Крупская слышала, как во сне он вскрикивал: „Если он конем пойдет сюда, я отвечу турой!“... Подобного рода „раж“, но еще с большим неистовством, он вносил и в свою общественную, революционную и интеллектуальную деятельность. В 1916 г. он писал Инессе Арманд: „Вот она судьба моя! Одна боевая кампания за другой... это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, я все же не променял бы сей судьбы на 'мир' с пошляками“. Боевая кампания! Лучше и не скажешь. Боевая кампания против народников, кампания за организацию партии, установление в ней централизма, железной дисциплины, кампания за бойкот Государственной думы, за вооруженное восстание, кампания против „ликвидаторов“ — меньшевиков, кампания за идеологическое истребление всех, не разделяющих воззрения диалектического материализма, кампания за поражение России в войну 1914-1917 гг., кампания за свержение Временного правительства, за захват власти, чтобы „или погибнуть или на всех парах устремиться вперед“. Жизнь Ленина действительно прошла в виде кампаний, войны, для которой мобилизовались все его интеллектуальные и физические силы. Чтобы осуществить свою мысль, свое желание, намеченную им цель очередной кампании, заставить членов его партии безоговорочно ей подчиниться, Ленин, как заведенный мотор, развивал невероятную энергию. Он делал это с непоколебимой верою, что только он имеет право на „дирижерскую палочку“. В своих атаках, Ленин сам в том признался, он делался „бешеным“. Охватившая его в данный момент мысль, идея, властно, остро заполняла его мозг, делала его одержимым. Остальные секторы психической жизни, другие интересы и желания в это время как бы свертывались и исчезали. В полосу одержимости перед глазами Ленина — только одна идея, ничего иного, одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед нею — запертая дверь, и в нее он ожесточенно, исступленно колотил, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ — Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Р. Авенариус. Он бешено их всех ненавидит, хочет им „дать в морду“, налепить „бубновый туз“, оскорбить, затоптать, оплевать. С таким „ражем“ он сделал и Октябрьскую революцию, а чтобы склонить к захвату власти колеблющуюся партию, не стеснялся называть ее руководящие верхи трусами, изменниками и идиотами. Грандиозные затраты энергии, требуемые каждой затеваемой Лениным кампанией, вызывая самопогоняние и беспощадное погоняние, подхлестывание других, его изнуряли, опустошали. За известным пределом исступленного напряжения его волевой мотор отказывался работать. Топлива в организме для него уже не хватало. После взлета или целого ряда взлетов „ража“ начиналось падение энергии, наступала психическая реакция, атония, упадок сил, сбивающая с ног усталость. Ленин переставал есть и спать. Мучили головные боли. Лицо делалось буро-желтым, даже чернело, маленькие острые монгольские глаза потухали. ...Он был неузнаваем. Спасаясь от тяжкой депрессии, Ленин убегал отдыхать в какое-нибудь тихое безлюдное место, чтобы выбросить из мозга, хотя бы на время, вошедшую в него как заноза мысль; ни о чем не думать, главное, никого не видеть, ни с кем не разговаривать. ...Он все время засыпал». Амбивалентность личности и поступков В. И. Ленина (качество, необходимое Божеству) проявлялась по-разному. В частности, Н. Валентинов описывает следующие «странности»: 1. «Хотя Ленин давал самые детальные советы и даже директивы, как драться с царской полицией, бить шпионов, поджигать полицейские участки (см. его письмо от 29 октября 1905 года в Боевой комнате при Петербургском Комитете), никак нельзя себе представить, что лично он может все это проделывать. Этого величайшего революционера нельзя себе представить идущим во главе демонстрантов на бой с полицией или стоящим в первых рядах на баррикаде. Почему? Потому ли, что у него не было личного мужества, или потому, что, по его убеждению, такие люди, как он, будучи призваны на пост верховного главнокомандующего, не должны заниматься тем, что делают простые солдаты? Л. Троцкий, которому, конечно, бросалась в глаза эта загадка Ленина, разрешил ее следующим противоположением: „Либкнехт был революционером беззаветного мужества... Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды... Наоборот, Ленину всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что на время войны он должен обеспечить главное командование“. Этой в высшей степени заботой охранить в своем лице от какого-либо риска „неприкосновенность руководства“, нужно думать, объясняется, например, и то происшествие с Лениным в январе 1919 года, в котором он, по мнению многих, обнаружил „поразительную трусость“. Ленин со своей сестрой Марией Ильиничной выехал вечером 19 января на автомобиле из Кремля, чтобы навестить в Сокольниках Крупскую, которая после болезни отдыхала там, в доме лесной школы, и принять там участие в детском празднике „Новогодней елки“. В пути на них — это было тогда в Москве почти обычным, бытовым явлением — напали бандиты. Ленина сопровождал телохранитель в лице чекиста Чебанова. Но сей муж так растерялся, что не оказал бандитам ни малейшего сопротивления. Никакого мужества не проявил и Ленин, хотя в кармане его пальто под рукой находился заряженный револьвер. Рисковать собою Ленин не пожелал. Он беспрекословно вышел из автомобиля, дал себя обыскать, ни слова ни говоря, отдал бандитам паспорт, деньги, револьвер и в придачу автомобиль, на котором бандиты укатили. Товарищи Ленина, из его же рассказов видевшие, что он имел полную возможность стрелять и одним выстрелом разогнать нападающих, удивлялись, почему же он не стрелял? Ленину эти вопросы и удивления так надоели, что в одну из своих статей он вставил следующий пассаж: „Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо, несомненно. 'Do ut des' ('даю' тебе деньги, оружие, автомобиль, чтобы ты дал мне возможность уйти подобру-поздорову). Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс 'принципиально недопустимым'...“ В переводе на другой язык это означает: бросьте говорить глупенькие речи о храбрости. Мудрость вождя революции и государства заключается в том, что, не поддаваясь рефлексам, он должен уметь уходить „подобру-поздорову“ из опасности...». 2. Политика «кнута и пряника» по отношению к соратникам: «Психологию большевистской публики Ленин превосходно знал, он обладал для этого особым чутьем. Он считал, что беспощадными, со ссылкой на Маркса, ударами по черепу можно у настоящего большевика изгнать всякие ереси и уклоны и тем восстановить идейное единство его партии. Как нужно действовать по отношению к партийцам, делающим попытки не следовать за его идейными директивами, он поведал однажды Инессе Арманд, с которой был наиболее откровенен. Говоря о политике с Ю. Пятаковым и Е. Бош, он писал к Арманд: „Тут дать 'равенство' поросятам и глупцам — никогда! Не хотели учиться мирно и товарищески, так пеняйте на себя. (Я к ним приставал, вызывая беседы об этом в Берне' воротили нос прочь! Я писал им письма в десятки страниц, в Стокгольм воротили нос прочь! Ну, если так, проваливайте к дьяволу. Я сделал все возможное для мирного исхода. Не хотите — так я вам набью морду и ошельмую вас, как дурачков, перед всем светом. Так и только так надо действовать)“. Опыты 1908-1914 годов, да и позднейшие, вполне подтвердили его убеждение. Метод „мордобития“ и „шельмования“ он применил ко всем против него бунтующим: к группе на Капри у М. Горького, к группе школы в Болонье, к группе „Вперед“ в Париже и т. д., и все эти большевистские группы с „уклонами“ под его ударами, в конце концов, развалились, и их участники, за исключением очень немногих (непокоренным из видных большевиков оказался лишь Богданов), возвращались в „отчий дом“, где Ленин радушно принимал покаявшихся, предавая полному забвению их бунт и, точно ничто не произошло, восстанавливал с ними нормальные личные отношения». 3. Амбивалентное отношение к людям вообще: «Ленин с детских лет был „командиром“. С 1890 года за ним и около него уже целая политическая свита. В течение своей жизни он был в хороших отношениях, по меньшей мере, с сотней лиц, но только с двумя — с Мартовым и Кржижановским — на очень короткое время был на „ты“. Вне политического и теоретического единомыслия, вне деловых отношений у него ни с кем, кроме родных, особенно с сестрой Маняшей, не было прочного душевного, эмоционального контакта. Строжайшее правило, которое сформулировал себе Ленин осенью 1900 года, после глубоко потрясшего его столкновения с Плехановым: „...надо ко всем людям относиться без сентиментальности, надо держать камень за пазухой“ — осталось у него на всю жизнь, он всегда был настороже. Всегда недоверчив. Всегда с опаской следил, нет ли у его окружения, его товарищей каких-либо уклонов от системы идей, им разделявшихся. Его ожесточенная борьба на II съезде партии в 1903 году за такой, казалось бы, пустяк, как „параграф 1-й“ устава партии (определение о принадлежности к партии), не может быть понята, если не знать, что он хотел в формах организации установить „осадное положение“ (его слова), не позволяющее проявляться в партии никаким уклонам. Несмотря на его глубочайшее недоверие к людям, к нему тянулась масса людей: он, несомненно, обладал неким таинственным магнитом. Бухарин даже говорит— „исключительным обаянием“. После Октября 1917 года за этим притяжением к Ленину— если в нем покопаться поглубже — стояло чувство благодарности к тому, кто вытащил из низов наверх тысячи самых маленьких людей и в качестве членов господствующей партии поставил на важные посты управления государством. Расходясь с кем-либо теоретически или политически, Ленин обычно порывал с ним всякие личные отношения. „Все, уходящие от марксизма, мои враги, руку им я не подаю, и с филистимлянами за один стол не сажусь“, — сказал он мне в конце нашей последней встречи. Моральными качествами своих товарищей Ленин никогда не интересовался. Кржижановский рассказывает, что в Сибири, когда в присутствии Ленина о ком-нибудь говорили: „он хороший человек“, Ленин всегда насмешливо спрашивал: „А ну-ка скажите, что такое хороший человек?“ По словам того же Кржижановского, он с полнейшим равнодушием относился к указанию, что „то или иное лицо грешит по части личной добродетели, нарушая ту или иную заповедь праотца Моисея“. Ленин в таких случаях... говорил: „Это меня не касается, это Privatsache“ (частное дело), или „на это я смотрю сквозь пальцы“. Относясь индифферентно к морали, Ленин под „хорошим человеком“ разумел выдержанного марксиста, ценного, на взгляд Ленина, партийца, революционного боеспособного человека, очень полезного его партии, а потом, после 1917 года, нужного и полезного руководимому Лениным государству». Например, «А. Д. Цурюпа, бывший вместе с Рыковым и Каменевым главным помощником Ленина в последние годы его жизни, часто болел и все-таки продолжал работать. Ленин, видя, что такая работа через силу не может продолжаться и окончательно выведет из строя этого ценнейшего работника, прислал ему следующую записку: „Дорогой Александр Дмитриевич! Вы становитесь совершенно невозможны в обращении с казенным имуществом. Предписание: три недели лечиться!.. Ей-ей, непростительно зря швыряться слабым здоровьем. Надо выправиться!“ Термин на протяжении лет меняется: удостаивающееся внимания лицо называется то „партийным имуществом“, то „казенным имуществом“, но суть отношения к человеку остается одной и той же. Не нужно апеллировать к товарищеским чувствам или сочувствию к болеющему человеку, раз забота о нем диктуется в глазах Ленина гораздо более важным мотивом... Смотря на Самойлова, Цурюпу и многих других, как на партийное, казенное имущество, подлежащее бережению и заботам, Ленин, с утилитарной и потусторонней точки зрения и с теми же практическими выводами, смотрел и на самого себя: он тоже был партийным, казенным имуществом, притом самым ценным из всех подобных имуществ, принадлежащих коллективу. В этом пункте грубейшая утилитарная самооценка Ленина переплеталась с грубо атеистической по внешним признакам, а по своей натуре религиозной верой в свою предназначенность — быть орудием свершения великих исторических целей». 4. Нескрываемая меркантильность (странная «хитреца Василия Шуйского»): «Хитрые люди о своей хитрости не говорят, ее прячут, а Ленин открыто преподавал своим товарищам: нужно уметь идти на „всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытия правды“. У него это логически связывается с убеждением — цель оправдывает всякие средства, а такое убеждение он усвоил от Чернышевского еще в Кокушкине в 1988 году. В область денежных дел Ленин всегда вносил „хитрецу“, „умолчание“, „сокрытие правды“, и эти приемы, в деликатной форме, он допускал и в сношениях с родными. Во времена „Искры“ (1901-1903 годы), с целью побудить товарищей „тащить“ со всех сторон деньги в партийную кассу, Ленин, скрывая правду, пугал их, что касса пуста („жить нечем“) и „Искра“ накануне финансового краха... Оригинальность Ленина в том, что в его самооценке отсутствовало столь обычное и у многих больших людей мелкое самолюбие, самолюбование. А всего этого было изрядное количество, например, в Троцком, после Ленина виднейшей фигуре Октябрьской революции. Троцкому не было и 48 лет, когда он начал писать автобиографию, с тщеславием рассказывать о своей жизни и совершенных в ней революционных подвигах. Ничего подобного этому тщеславию не было у Ленина, но у него было нечто другое и неизмеримо большее. Он непоколебимо верил, что в нем олицетворяется идея и участь Великой Революции, что только он один обладает верным знанием, как вести революцию, обеспечить ей успех, и поэтому-то ему, всевидящему водителю, нужно сохранять и оберегать свою жизнь. Вопросом — почему „только он один“ обладает безошибочным знанием — Ленин вряд ли когда занимался. Вера в свою избранность и предназначенность вошла в него с давних пор и по своей психологической сути она подобна вере, что жгла душу Магомета, когда тот гнал арабов на завоевание мира. При всем своем грубом материализме и воинствующем атеизме — Ленин все-таки своеобразный религиозный тип. На поддержку себя он смотрел как на поддержку революции, а при таком понимании — цель оправдывала все средства и, следовательно, хитрости, сокрытие правды умолчания, слезливые или пугающие письма (гибну! жить нечем! тащите побольше денег!) делались приемами законными, естественными, не могущими вызывать никакого осуждения». Так же амбивалентен В. И. Ленин и в ряде других проявлений. «Если бы заснять фильм из повседневной жизни эмигранта Ленина в пределах его правил, привычек, склонностей,— получилась бы картина трудолюбивого, уравновешенного, очень хитрого, осторожного, без большого мужества, трезвейшего, без малейших эксцессов мелкого буржуа. Однако это только одна половина Ленина. А вот если бы параллельно с первым, „немым“ фильмом, заснять другой, с записью звуковой, передающей то, что проповедует Ленин, то, что чистенько, аккуратненько он заносит на бумагу (без писания, сводящегося к наставлениям, команде, приказам, директивам,— он не мог бы жить), предстанет феномен, бьющий своей противоречивостью. Этот трезвый, расчетливый, осторожный, уравновешенный мелкий буржуа далек от уравновешенности. Он считает себя носителем абсолютной истины, он беспощаден, он хилиаст. Он способен доводить свои увлечения до ража, от одного ража переходить к другому, загораться испепеляющей его самого страстью, заражаться слепой ненавистью, заряжаться таким динамитом, что от взрыва его в октябре 1917 года будут сдвинуты с места все оси мира. Две души, два строя психики, два человека — в одной и той же фигуре. Как Фауст Гете, он мог бы сказать о себе: Но две души живут во мне. И обе не в ладах друг с другом. Возвращаясь из эмиграции и подъезжая 16 апреля 1917 года к Петрограду, Ленин, волнуясь, спрашивал: „Арестуют ли нас по приезде?“ Это — одна ипостась Ленина. Двадцать минут спустя, после торжественного его приема на вокзале представителями Совета рабочих и солдатских депутатов, Ленин несся на броневике через весь Петроград к дворцу Кшесинской, ставшего помещением Центрального Комитета большевиков, бросая встречным толпам: „Да здравствует мировая социалистическая революция!“ Это — другая ипостась Ленина. От одной души пойдет НЭП и завещание Ленина — „надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед...“ От другой — Октябрьская революция и хилиастические видения кровавой мировой коммунистической революции». Амбивалентный образ вождя-Божества создавался и при помощи других средств. «Так, В. И. Ленину нравилось, когда его именовали Стариком: „Старик мудр, — говорил Красиков, — никто до него так тонко, так хорошо не разбирал детали, кнопки и винтики механизма русского капитализма“. „Старик наш мудр“, — по всякому поводу говорил Лепешинский. При этом глаза его делались маслянисто-нежными, и все лицо выражало обожание. Именование „Стариком“, видимо, нравилось Ленину. Из писем, опубликованных после его смерти, знаем, что многие из них были подписаны: „Ваш Старик“, „Весь ваш Старик“. Приняв это с Востока, русская церковь с почтением склонялась перед образом монаха — старца, святого и одновременно мудрого, постигающего высшие веления Бога, подвизающегося „в терпеньи, любви и мольбе“. В „Братьях Карамазовых“ монах Зосима мудр не потому только, что стар, а „старец“ потому, что мудр. „Старец“ не возрастное определение, а духовно-качественное. Именно в этом смысле Чернышевский называл Р. Овэна „святым старцем“. И когда Ленина величали „стариком“, это, в сущности, было признанием его „старцем“, т. е. мудрым, причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться». В партии Ленин считался не подлежащим никакой критике «партийным божеством». А. Н. Потресов, еще с 1894 г. знавший Ленина, вместе с ним организовавший и редактировавший «Искру», позднее, в течение первой и второй революции ненавидевший Ленина, познавший в годы его диктаторства тюрьму, нашел в себе достаточно беспристрастности, чтобы спустя 3 года после смерти Ленина, написать о нем следующие строки: «...никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личности, как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, по видимости не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей; я бы сказал — господства над ними. Только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, вливающего фанатическую веру в движение, в дело, с не меньшей верой в себя. Эта своего рода волевая избранность Ленина производила когда-то и на меня впечатление». Ленин очень любил пение: «Присяжным певцом при Ленине был Гусев. В течение января и февраля, до момента, когда Ленин весь ушел в писание „Шаг вперед, два шага назад“, Гусев постоянно пел на раутах, еженедельно происходивших у Ленина с целью укрепления связи между большевиками Женевы». Избранность и «большевистская» божественность проявлялись у Владимира Ильича в выборе допускаемых к нему товарищей. «У Ленина, несомненно, существовала какая-то система, постороннему не всегда понятная. Например, Красиков мог приходить к Ленину свободнее, чем Гусев, Ольминский, Мандельштам или Лепешинский, но так было не всегда. Иногда тому же Красикову говорилось, что „Владимира Ильича нет дома“, а между тем у него в это время сидел Гусев. Такой отбор, мне кажется, находился в связи с тем, что по интересующему в данный день или неделю вопросу могло Ленину принести то или иное лицо. В такой момент это лицо для него делалось нужным и интересным, а все другие — обременительными и ненужными. Ленин не любил сообщать, кто у него бывал, кого он видел и даже с кем он гулял, а узнавая от посещавших его товарищей какую-либо новость или сплетню (до них он был очень охоч), редко указывал другим, от кого он их слышал. „От кого я слышал эту новость? Сорока на хвосте принесла“. Такой ответ я трижды получал от него. В допуске к нему партийных товарищей у Ленина, по видимому, играл роль еще и такой мотив: он чурался скучных, очень мрачных и бесстрастных людей. О Мандельштаме он сказал: „Это очень хороший человек, т. е. честный и полезный партии революционер, беда только, но это уже относится к области личных отношений, он скучен, как филин, смеется раз в год, да и то неизвестно по какому поводу“. Если можно так выразиться, он любил страстных (вернее, пристрастных) и веселых революционеров. Нужно думать, что по этой причине имел у него такой успех приехавший в Женеву в конце 1904 г. А. В.Луначарский (будущий народный комиссар просвещения), бывший действительно блестящим и веселым человеком, угощавшим Ленина фонтаном остроумных речей и разных анекдотов». Недоверчивость к товарищам, скрытность, интерес к сплетням, контроль над всей информацией (особенно по поводу личной жизни)— это тоже черты вождя Ленина. Имея в виду осуществленный диалог В. И. Ленина с обществом, часть которого пошла за ним (и победила!), особенно интересна творческая часть его жизни, то, каким образом вождь порождал свои тексты: «Когда Ленин писал какую-нибудь простую статью, а таких, причем очень скверно, безвкусно и безстильно написанных, у него множество, он делал это очень быстро во всякой обстановке. Для этого нужна была только бумага, чернила и перо. Когда речь заходила о более сложной вещи, в которой нужно было связать и тщательно продумать основные мысли, найти им подходящую литературную форму, он обычно долго ходил по комнате и про себя конструировал фразы, выражающие его главные мысли. После многих повторений шепотом таких мыслей, установив их внешнее выражение, он принимался писать. Но при некоторых работах одного шепота Ленину было недостаточно. Ему нужно было кому-то не шепотом, а уже громко разъяснить, сказать, что он пишет, какие мысли защищает. В процессе говорения и „громкоговорения“, прислушиваясь к нему, Ленину, видимо, удавалось лучше уточнить им защищаемые мысли и лучше подыскать для них слова, формы, выражения. — Главная часть творчества Ильича, — рассказывала Крупская, — происходила на моих глазах. В Сибири, прежде чем писать брошюру „Задачи русских социал-демократов“, он всю ее мне рассказал. За некоторые для него интересные главы „Развития капитализма“ он не брался, пока не изложит мне их основные мысли. Содержание „Что делать?“ Ильич устанавливал про себя шепотком, все время прохаживаясь по комнате. А после этой предварительной работы, уже с целью лучшей отделки мыслей, он их громко выговаривал. Прежде чем писать, Ильич все главы книжки „Что делать?“ одна за другой мне „проговорил“. Он любил это делать во время прогулок в Мюнхене, а чтоб никто ему не мешал, мы выходили за город. Тем же приемом, т. е. сначала подготовкой шепотом, а потом говорением, составлены и другие работы, например „Гонители земства и Аннибалы либерализма“». Таким же образом, сначала шепотом, потом говорением и громкоговорением, затем — написанием, передавалась информация, сформировавшая в массовом сознании образ великого вождя, мудрого Ленина. Называясь атеистом и будучи глубоко верующим в свою избранность, уверенным в своем мессианстве, Ленин создал амбивалентный, а потому очень живучий миф: «Ленин и теперь живее всех живых: наше знание, сила и оружие». С этим мифом гармонировал соответствующий ленинский культ: уставы партии, гимны, материалы партийных съездов и постановления можно отнести к литургическому творчеству; иконография была представлена многочисленными изображениями В. И. Ленина на холстах, в мраморе, Ронзе, в тенденциозных фильмах и пьесах; к символическим теур гическим действам можно отнести гимн партократической верхушки, таинства съездов, действа первомайских и октябрьских демонстраций. Добавим к этому соответствующий язык: обилие аббревиатур (РКП(б), ВЧК, КПСС, ВЦСПС), слова с негативной семантикой и фоносемантикой: буржуй, гидра, Гапонщина, каратель, кулак, мурло (мещанина). В общем, перед нами образ человека — антитезы: мудрого и вспыльчивого, щедрого и скуповатого в мелочах, отчаянно-смелого в мыслях и трусливого в жизни. В общем, такого, как «великий человек толпы» Ф. Ницше: «Легко дать рецепт того, что толпа зовет великим человеком. При всяких условиях нужно доставлять ей то, что ей весьма приятно, или сначала вбить ей в голову, что то или иное было бы приятно, и затем дать ей это. Но ни в коем случае не сразу; наоборот, следует завоевывать это с величайшим напряжением, или делать вид, что завоевываешь. Толпа должна иметь впечатление, что перед ней могучая и даже непобедимая сила воли; или, по крайней мере, должно казаться, что такая сила существует. Сильной волей восхищается всякий, потому что ни у кого ее нет, и всякий говорит себе, что, если бы он обладал ею, для нее и для его эгоизма не было бы границ. И если обнаруживается, что такая сильная воля осуществляет что-либо весьма приятное толпе, вместо того чтобы прислушиваться к желаниям своей алчности, то этим еще более восхищаются и с этим поздравляют себя. В остальном такой человек должен иметь все качества толпы: тогда она тем менее будет стыдиться перед ним, и он будет тем более популярен. Итак, пусть он будет насильником, завистником, эксплуататором, интриганом, льстецом, пролазой, спесивцем — смотря по обстоятельствам». Именно таким человеком-легендой и был великий вождь пролетариата. Поэтому и покоится товарищ Ленин в мавзолее, будучи атеистом и «самым человечным человеком», а к покрытым временной пылью трудам его вновь и вновь будут возвращаться удивленные потомки... Миф Гитлера«В древних буддийских документах получила прекрасное выражение мысль, что критическая самооценка и связанная с ней способность проводить различие между истинным и ложным являются существенными элементами религиозной установки». В отличие от В. И. Ленина, Адольф Гитлер был более последовательной в приверженности злу личностью. Тем не менее, в фактах их биографии было много общего. Обратимся к труду Э. Фромма «Адольф Гитлер — клинический случай некрофилии» во всех его чертах отчетливо проявлялась страсть «к разрушению. Однако ни миллионы немцев, ни политики всего мира не смогли этого увидеть. Наоборот, они считали его патриотом, который действует из любви к родине; немцы видели в нем спасителя, который избавит страну от унижений Версальского договора и от экономической катастрофы, великого зодчего новой, процветающей Германии. Как же могло случиться, что немцы и другие народы мира не распознали под маской созидателя этого величайшего из разрушителей? На это было много причин. Гитлер был законченным лжецом и прекрасным актером. Он заявлял о своих миролюбивых намерениях и после каждой победы утверждал, что, в конечном счете, все сделает во имя мира. Он умел убеждать — не только словами, но и интонацией, ибо в совершенстве владел своим голосом. Но таким образом он лишь вводил в заблуждение своих будущих врагов». Э. Фромм отмечает следующие черты характера А. Гитлера: 1) Садо-мазохистский авторитарный тип личности: «Все, что писал и говорил Гитлер, выдает его стремление властвовать над слабым. Вот, например, как он объясняет преимущества проведении массовых митингов в вечернее время: „По утрам и даже в течение дня человеческая воля гораздо сильнее сопротивляется попыткам подчинить ее другой воле и чужим мнениям. Между тем вечером люди легче поддаются воздействию, которое оказывает на них более сильная воля. В самом деле, каждый митинг — это борьба двух противоположных сил. Ораторский дар, которым обладает боле сильная, апостольская натура, в это время дня сможет гораздо легче захватить волю других людей, испытывающих естественный спад своих способностей к сопротивлению, чем это удалось бы сделать в другое время с людьми, еще сохраняющими полный контроль над энергией своего разума и воли“. 2) Вместе с тем, со свойственной ему мазохистской покорностью, он считал, что действует, подчиняясь высшей силе, будь то провидение или биологические законы: „Все, чего они (массы) хотят, это чтобы победил сильный, а слабый был уничтожен или безжалостно подавлен“. 3) Нарциссизм. Он интересовался только собой, своими желаниями, своими мыслями. Он мог до бесконечности рассуждать о своих идеях, о своем прошлом, своих планах. Мир был для него реальным лишь в той мере, в какой он являлся объектом его теорий и замыслов. Люди что-нибудь для него значили, только если служили ему или их можно было использовать. Он всегда знал все лучше других. Такая уверенность в собственных идеях и построениях — типичная примета нарциссизма в его законченном виде. 4) Уход от реальности. В своих суждениях Гитлер опирался в основном на эмоции, а не на анализ и знание. Вместо политических, экономических и социальных факторов для него существовала идеология. Он верил в идеологию, поскольку она удовлетворяла его эмоционально, а потому и в факты, которые в системе этой идеологии считались верными. 5) Абсолютное отсутствие способности любить, дарить тепло и сопереживать. С людьми он всегда был холоден и соблюдал дистанцию. На протяжении всей жизни рядом с ним не было никого, кого он мог бы назвать своим другом. Он всегда был скрытным одиночкой — и в те времена, когда рисовал открытки в Вене, и тогда, когда стал фюрером рейха. Шпеер говорил о его „неспособности к человеческим контактам“. Но Гитлер и сам сознавал свое полное одиночество и был убежден, что единственное, что притягивает к нему людей, это его власть. Его друзьями были собака и женщина, которых он никогда не любил и не уважал, но держал у себя в подчинении. Благородные человеческие чувства у Гитлера отсутствовали. Нежность, любовь, поэзия были чужды его натуре. На поверхности он был вежлив, обаятелен, спокоен, корректен, дружелюбен, сдержан. Роль этой весьма тонкой оболочки состояла в том, чтобы скрывать его подлинные черты». К числу его очевидных способностей относилась способность к внушению, способность производить впечатление на людей и убеждать. Способность Гитлера влиять на людей имела несколько корней: 1. Магнетизм, источником которого, по мнению большинства авторов, были его глаза. Описано много случаев, когда люди, относившиеся к нему с предубеждением, внезапно меняли свою точку зрения после его прямого взгляда. Вот как вспоминает о своей встрече с Гитлером профессор А. фон Мюллер, читавший в Мюнхене курс истории для солдат по ведомству разведки и контрразведки. «Закончив свою лекцию, я натолкнулся в опустевшем зале на небольшую группу, заставившую меня остановиться. Слушатели стояли, как будто загипнотизированные человеком, без остановки говорившим странным гортанным голосом и со все возрастающим возбуждением. У меня возникло странное чувство, что возбуждение его слушателей тоже все время росло, и это, в свою очередь, придавало дополнительную силу его голосу. Я увидел бледное, худое лицо... с коротко подстриженными усиками и огромными бледно-голубыми сверкающими и в то же время холодными глазами фанатика». Э. Фромм объясняет магнетизм Гитлера тем, «что у людей с сильно развитым нарциссизмом часто наблюдается специфический блеск в глазах, создающий впечатление сосредоточенности, целеустремленности и значительности (как бы не от мира сего). В самом деле, порой бывает нелегко различить по выражению глаз человека духовно развитого, почти святого и человека, страдающего сильным нарциссизмом, по сути полусумасшедшего. Единственным эффективным критерием является в таком случае присутствие (соответственно — отсутствие) теплоты во взгляде. Но все свидетели сходятся в том, что глаза Гитлера были холодными — как было холодным и выражение его лица в целом — и что ему вообще были чужды какие-либо теплые чувства. Эта черта может отталкивать, но может быть и источником магнетической силы. Лицо, выражающее холодную жестокость, вызывает страх. Но некоторые страху предпочитают восхищение. Здесь лучше всего подойдет слово „трепет“: оно абсолютно точно передает возникающие в такой ситуации смещение чувств. Трепет соединяет в себе ужас и благоговение. (Такое же двойственное значение имеет на иврите слово „норах“. В иудейской традиции им обозначается атрибут Бога, выражающий архаическую установку сознания, в которой одновременно присутствуют ужас и восхищение — страх Господень)» (Фромм, 1994, с. 356-357). 2. Непоколебимая уверенность в своих идеях — еще один фактор, объясняющий суггестивные способности Гитлера. В обстановке социальной и политической неопределенности, как это было в Германии в 20-е годы, люди обращают свои взоры к фанатику, умеющему ответить на все вопросы, и готовы объявить его «спасителем». 3. Простота слога. Он никогда не утруждал слушателей тонкостями интеллектуальных или моральных суждений. Он брал факты, подтверждавшие его тезис, грубо лепил их один к другому и получал текст вполне убедительный, по крайней мере, для людей, неотягощенных критической способностью разума. 4. Блестящие актерские способности. Он умел очень тонко передавать мимику и интонацию самых различных типажей. Он в совершенстве владел голосом и свободно вносил в свою речь модуляции, необходимые для достижения нужного эффекта. Обращаясь к студентам, он бывал спокойным и рассудительным. Одна манера речи предназначалась у него для общения с грубоватыми старыми мюнхенскими дружками, другая — для разговора с немецким принцем, третья — для бесед с генералами. Он мог устроить гневную сцену, желая сломить неуступчивость чехословацких или польских министров, а, принимая Чемберлена, мог быть предупредительным и дружелюбным хозяином. 5. Приступы гнева. Внезапные вспышки гнева сыграли большую роль в формировании ходячего стереотипа, который был особенно распространен за пределами Германии и изображал фюрера как вечно разгневанного человека, орущего, не владеющего собой. Гитлер был в основном спокойным, вежливым и сдержанным. Вспышки гнева, хотя и довольно частые, были все-таки в его поведении исключением. Эти приступы случались в ситуациях двух типов: а) во время его выступлений, особенно под конец. Ярость его была при этом совершенно подлинной, не наигранной, ибо ее питала настоящая ненависть и страсть к разрушению, которым он давал свободно излиться в какой-то момент своей речи. Именно подлинность делала его гневные тирады столь убедительными и заразительными. Но, будучи подлинными, они отнюдь не были бесконтрольными. Гитлер очень хорошо знал, когда приходило время подстегнуть эмоции слушателей, и только тогда открывал плотину, которая сдерживала его ненависть; б) во время бесед вспышки ярости его были совсем другими. Они были сродни капризам шестилетнего ребенка. Своими вспышками Гитлер наводил страх на собеседников, но он был в состоянии их контролировать, когда это было необходимо. 6. Исключительная память. «Известно, что Гитлер легко запоминал цифры и технические детали. Он мог назвать точный калибр и дальность любого оружия, количество подводных лодок, которые находятся в данный момент в плавании или стоят в гавани, и множество других подробностей, имевших значение для ведения войны. Неудивительно, что его генералы бывали искренне поражены глубиной его знаний, хотя в действительности это было только свойство механической памяти». «Как показывает внимательное изучение „Застольных бесед“, речей Гитлера и „Майнкампф“, он был жадным читателем и обладал способностью отыскивать и запоминать факты, чтобы затем использовать их при любой возможности, подкрепляя свои идеологические посылки. Если попытаться объективно взглянуть на „Майн кампф“, мы едва ли сможем квалифицировать его как труд, написанный действительно эрудированным человеком. Это скорее умно — и очень недобросовестно — состряпанный пропагандистский памфлет. Что же касается его речей, то, несмотря на их потрясающую эффективность, они были произведениями уличного демагога, но не образованного человека. „Застольные беседы“ демонстрируют его талант в искусстве вести разговор. Но и в них он предстает перед нами как одаренный, но поверхностно образованный человек, не знавший ничего досконально. Это был человек, который, перескакивая из одной области знаний в другую, ухитрялся, благодаря своей удивительной памяти, выстраивать более или менее связные цепочки фактов, специально выуженных из различных книг. Порой он допускал грубейшие ошибки, свидетельствующие о недостатке фундаментальных знаний. Но время от времени ему удавалось удивлять своих слушателей». 7. Маскировка. «Этот терзаемый страстями человек был дружелюбным, вежливым, сдержанным и почти застенчивым. Он было собенно обходительным с женщинами и никогда не забывал послать им цветы по случаю какого-нибудь торжества. Он ухаживал за ними за столом, предлагал пирожные и чай. Он стоял, пока не садились его секретарши». «Роль дружелюбного, доброго, чуткого человека Гитлер умел играть очень хорошо. И не только потому, что он был великолепным актером, но и по той причине, что ему нравилась сама роль. Для него было важно обманывать свое ближайшее окружение, скрывая всю глубину своей страсти к разрушению, и, прежде всего, обманывать самого себя». 8. Недостаток воли. «Слабость воли Гитлера проявлялась в его нерешительности. Многие из тех, кто наблюдал его поведение, отмечают, что в ситуации, требующей принятия решения, его вдруг начинали одолевать сомнения. У него была привычка, свойственная многим слабовольным людям, дожидаться в развитии событий такого момента, когда уже не надо принимать решения, ибо его навязывают сами обстоятельства. Гитлер умел манипулировать обстоятельствами, чтобы нагнетать обстановку. Таким образом, мобилизуя всю свою изощренную технику самообмана, он избегал необходимости принимать решения. Избрав же ту или иную линию, Гитлер проводил ее с непоколебимым упорством, которое можно было бы назвать „железной волей“. Нарушенное чувство реальности. Мир фантазии был для него более реальным, чем сама реальность. „Люди тоже не были для него реальными. Он видел в них только инструменты. Но настоящих человеческих контактов у него не было, хотя порой он бывал достаточно проницательным. Впрочем, не будучи в полной мере реалистом, он в то же время не жил целиком и в мире фантазии. Его мир складывался из реальности и фантазий, смешанных в определенной пропорции: здесь не было ничего до конца реального и ничего до конца фантастического. В некоторых случаях, особенно когда он оценивал мотивы своих противников, он бывал удивительным реалистом. Он почти не обращал внимания на то, что люди говорили, и принимал во внимание только то, что считал их подлинными (даже не всегда осознанными) побуждениями“. Миф Гитлера формировался различными способами. В „Застольных разговорах“ приводится один из рассказов фюрера о его политической борьбе: „Уже в начале политической деятельности он заявил, что главное не в том, чтобы привлечь на свою сторону жаждущее лишь порядка и спокойствия бюргерство, чья политическая позиция продиктована, прежде всего, трусостью, но в том, чтобы воодушевить своими идеями рабочих. И все первые годы борьбы ушли на то, чтобы привлечь рабочих на сторону НСДАП. При этом использовались следующие средства: 1. Подобно марксистским партиям, он также распространял политические плакаты огненно-красного цвета. 2. Он использовал для пропаганды грузовики, причем они были сплошь оклеены ярко-красными плакатами, увешаны знаменами, а его люди с них хором выкрикивали лозунги. 3. Он позаботился о том, чтобы все сторонники Движения приходили на митинги без галстуков и воротничков и не особенно принаряжались, дабы тем самым вызвать доверие к себе простых рабочих. 4. Буржуазные элементы, которые — не будучи истинными фанатиками его идей — хотели примкнуть к НСДАП, он стремился отпугнуть громкими выкриками пропагандистских лозунгов, неопрятной одеждой участников митингов и тому подобными вещами, чтобы с самого начала не допустить в ряды Движения трусов. 5. Он всегда приказывал применять самые грубые методы при удалении из зала политических противников, так что вражеская пресса, которая обычно ничего не сообщала о собраниях, информировала читателей о причиненном там членовредительстве и тем самым привлекала внимание к митингам НСДАП. 6. Он послал несколько своих ораторов на курсы ораторского искусства других партий, чтобы таким образом узнать темы выступлений их представителей на дискуссиях и затем, когда те выступят на наших собраниях, дать им достойный отпор. Он всегда разделывал под орех выступающих в дискуссиях женщин из марксистского лагеря тем, что выставлял их на посмешище, указав на дырку в чулке, утверждая, что их дети завшивели и т. д. Поскольку разумные аргументы на женщин не действуют, а, с другой стороны, удалить их из зала нельзя, не вызвав протестов собравшихся, то это самый лучший метод обращения с ними. 7. Он, выступая в дискуссиях, всегда говорил свободно, без подготовки и приказывал членам партии подавать определенные реплики, которые — создавая впечатление — придавали силу его высказываниям. 8. Когда же прибывали оперативные группы полиции, то он давал знак своим женщинам, и те указывали им на оказавшихся в зале противников или даже просто незнакомых людей, на которых полицейские бросались, ни в чем не разобравшись, как спущенные сцепи волкодавы. Это был наилучший способ отвлечь их внимание или даже просто избавиться от них. 9. Митинги других партий он разгонял, провоцируя там с помощью членов своей партии драки, потасовки и тому подобные вещи. Благодаря этим средствам ему удалось привлечь на сторону Движения столько хороших элементов трудового населения, что он во время одной из последних избирательных кампаний перед приходом к власти провел не менее 180 000 митингов. ...Гитлер лично сформулировал так называемые заповеди членов НСДАП. Среди них: „Фюрер всегда прав!“, „Ты — представитель партии, равняй на это свое поведение и свои действия! Быть национал-социалистом — значит быть во всем примером!“, „Верность и самоотверженность да будут тебе высшей заповедью!“, „Право — это все то, что полезно Движению и тем самым Германии, то есть твоему народу!“ — Как все просто! Как все знакомо!“ — Такими словами комментирует Г. Пикер обеденный разговор от 8.4.1942 г. Немецкий филолог, профессор Виктор Клемперер в своей книге „ЛТИ. Записки филолога“ описывает язык Третьего Рейха — явление, которое в немалой степени способствовало формированию фашизма. Андрей Битов размышляет об аналогичном „эксперименте“ в России: „История геноцида русского языка пока еще не написана... Пока что складывается история геноцида людей... История геноцида языка могла бы быть написана конкретно, научно. Этакий ГУЛАГ для слов. Язык как ГУЛАГ. Для начала как история партийных постановлений и установок. Потом как вымирание словаря. Потом как заселение его разного рода выдвиженцами, под — и переселенцами. Потом как быт порабощенной речи. Периодическая борьба за его „чистоту“ — история чисток. Потом — как история восстаний и подавлений языка...“ Итак, что такое ЛТИ, по мнению Клемперера? Были BDM (Bund Deutsches Madel—Союз Немецких Девушек) и HJ (Hitlerjugend — Гитлеровская Молодежь), и DAF (Deutsche Arbaits-front — Немецкий Трудовой Фронт), и бесчисленное множество других сокращений. „Сначала как игра в пародию, потом как временная помощь для памяти, нечто вроде узелка на носовом платке, и, наконец, через все эти несчастные годы, как самозащита, как сигнал СОС, направленный самому себе,— появляется в моем дневнике сокращение ЛТИ. Оно выглядит научно, как и все эти звучные иностранные слова, которые так любили употреблять в Третьем Рейхе: „гарант“ звучит солиднее, чем „поручитель“, а „диффамация“ устрашает больше, чем „бесславие“. (А может и не всякий их понимает — тогда впечатление еще сильнее). ЛТИ. Lingvo Tertii Imperil, язык Третьего Рейха. ЛТИ — язык необычайно убогий. Его нищета почти принципиальная — такое впечатление, что он дал обет убогости. „Майн Кампф“, библия национал-социализма, впервые вышла в 1925 г., и с этого момента язык национал-социализма уже утвержден во всех основных чертах. С 1933 г., с момента прихода партии к власти, он из языка группы людей становится языком народа, т. е. овладевает всеми общественными и частными сферами жизни: политикой, юстицией, экономикой, искусством, наукой, школой, спортом, семьей, детскими садами, чуть ли не колыбелью. Разумеется, ЛТИ распространил свою экспансию и на армию, причем с особой энергией, но между военным языком и ЛТИ происходило взаимное влияние, точнее говоря, сначала язык армии воздействовал на ЛТИ, а затем сам оказался им захвачен... До 1945 г. включительно, почти до последнего дня... печаталось огромное количество всякого рода литературы: листовок, газет, журналов, учебников, научных и литературных сочинений. И во всей этой временной и жанровой обширности ЛТИ оставался убогим и монотонным. В зависимости от того, какие возможности подсовывала мне жизнь, ...я изучал то „Миф XX века“, то „Карманный календарь розничного торговца“, иногда перелистывал то юридические, то фармацевтические журналы, читал романы и стихи, выходившие в те годы, слушал разговоры рабочих на фабрике. Повсюду, будь то слово печатное или устное, у людей образованных и простых был один и тот же стереотип и один тон. И даже у самых гонимых жертв и смертельных врагов национал-социализма, у евреев, повсюду,— в их разговорах и письмах, в их книгах, пока они еще могли их публиковать,— царил столь же всесильный, сколь и богий, и именно благодаря своему убожеству всесильный ЛТИ. Причина этого убожества представляется совершенно ясной. Организованная в мельчайших деталях система тирании попросту бдит над тем, чтобы доктрина национал-социализма в каждом своем пункте, а значит, и в языке, осталась чистой. По образцу папской цензуры титульный лист всех книг, касающихся партии, снабжен клаузулой: „Национал-социалистическая партия не возражает против данной публикации. Председатель комиссии партийного контроля по охране национал-социализма“. Печататься может лишь тот, кто является членом Имперской Литературной Палаты, а вся пресса может публиковать лишь материал, полученный из центра, самое большее слегка модифицируя обязательный для всех текст — причем модификация эта ограничивается лишь чисто внешним обрамлением установленных стереотипов. В последние годы Третьей Империи установился обычай, когда по берлинскому радио в пятницу вечером читали свежую статью Геббельса для „Рейха“,— за день до появления этого номера — и таким образом всякий раз было известно, что до следующей субботы должно печататься на первых страницах всех газет. Таким образом, обязательная для всего общества языковая модель творилась очень небольшим кругом людей. Возможно даже, что лицом, определявшим, какой язык дозволен, был лишь один Геббельс. Абсолютная власть, осуществляемая языковой монополией маленькой группы людей, вернее, одного человека, распространилась на всю сферу немецкого языка тем более успешно, что ЛТИ не знает границы между словом устным и письменным. Или вернее: все в нем было, должно было быть обращением, воззванием, пробуждением страсти. Между статьями и речами министра пропаганды не было никакой стилистической разницы — именно поэтому его статьи так хорошо поддавались декламации. Обязательный для всех стиль был стилем крикливого агитатора. И здесь за одной ясной причиной убожества ЛТИ встает другая, более глубокая. ЛТИ убог не только потому, что все должны были руководствоваться одним и тем же образцом, но, прежде всего, потому, что он умышленно ограничивал себя лишь одной стороной человеческой натуры. Всякий свободно функционирующий язык служит всем человеческим потребностям: он является орудием разума и чувств, средством информации и беседы, монолога и молитвы, просьбы, приказа, заклинания. ЛТИ служит исключительно этому последнему. Какой частной или общественной сферы ни коснись, — все становится выступлением, и все свершается публично. „Ты — ничто, твой народ— все“, — так звучит один из националистических лозунгов. Что означает: ты не один наедине с собой, ты не один со своими близкими, ты стоишь перед лицом народа. Поэтому ошибкой было бы сказать, что ЛТИ во всех сферах обращается исключительно к воле человека. Ибо апеллирующий к воле всегда апеллирует к личности, даже если обращается к состоящему из личностей целому. Но ЛТИ стремится к тому, чтобы полностью лишить человека его индивидуальной сущности, заглушить в нем личность, сделать из него бессмысленного и безвольного члена стада, гонимого в заданном направлении, песчинку. ЛТИ — это язык массового фанатизма. Там, где он обращается к личности, причем не только к ее воле, но и к ее интеллекту, где он выступает как доктрина, там он внедряет методы фанатизации и массового внушения. То, что ЛТИ в своих кульминационных моментах должен быть языком веры, понятно само собой, но знаменательно при этом, что как язык веры он полностью опирается на христианство, точнее говоря, на католицизм, в то время как национал-социализм явно и скрыто, теоретически и практически с самого начала борется с христианством и особенно с католической церковью. При всем том первые жертвы — партийцы, те 16, что погибли под Фельдхенхалле, с точки зрения культовой и языковой трактуются как христианские мученики. Знамя, которое несли во главе того шествия, именуют „кровавым стягом“, и новые члены С А и СС принимают присягу, прикасаясь к нему. Соответствующие речи и статьи изобилуют выражениями типа „свидетельство крови“. Даже тех, кто не участвовал в таких церемониях лично или сидя в кинозале, все равно окутывает благочестивый кровавый туман, заключенный уже в самых определениях. Первый после захвата Австрии праздник Рождества, „Велико-германское Рождество 1938 г.“, подается прессой в полностью дехристианизированной форме: столь торжественно отмечаемое событие— это исключительно „праздник немецкой души“, „возрождение Великой Германии“ и, следовательно, новое рождение света, вот почему все внимание сосредотачивается на солнечном круге и свастике, а еврей Иисус полностью выносится за скобки. Когда вскорости на день рождения Гиммлера учреждается Орден Крови, это уже явно „орден нордической крови“. Однако все словесное обрамление взято из христианского словаря. Такие понятия как мистика святой ночи, мученичество, воскресенье, рыцарский орден, являющиеся символами католическими и парсифалевскими, здесь пытаются ассоциировать с деяниями фюрера и его партии (вопреки их языческой сути). При этом необыкновенно важную и специфическую роль играет слово „вечный“. Оно принадлежит к тем выражениям из словаря ЛТИ, нацистский характер которых определяется исключительно бесцеремонностью их употребления: ЛТИ непрерывно пользуется эпитетами „исторический“, „единственный в своем роде“, „вечный“. Слово „вечный“ можно считать высочайшей ступенью в длинной лестнице нацистских превосходных степеней, причем, с этой последней ступени вход уже прямо на небо. Вечность — атрибут Божества; называя что-то „вечным“, мы помещаем это „что-то“ в религиозную сферу. „Мы нашли путь в вечность“ — сказал Лей во время торжественного открытия Школы Адольфа Гитлера (высшая партийная школа) в 1938 г. На экзаменах в этой школе нередко задается провокационный вопрос: „Что наступит после Третьего Рейха?“. Если не чувствующий подвоха ученик отвечает „четвертый“, то его безжалостно исключают (даже при хороших профессиональных знаниях) как бестолкового адепта партии. Правильный ответ таков: „Ничего не наступит, ибо Третий Рейх будет вечным немецким государством“. 9 ноября 1935 г. о погибших при Фельдхенхалле Гитлер сказал: „мои апостолы“ (используя новозаветные выражения, он определяет себя как немецкого спасителя). Их шестнадцать, видимо, он хочет иметь их больше, чем было у его предшественника, а во время погребальных торжеств прозвучали слова: „Вы воскресли в Третьем Рейхе“. Фюрер неустанно подчеркивает свои исключительно близкие отношения с Богом, свою роль избранника, дитя Божия, свою религиозную миссию. В период триумфального взлета своей политической карьеры он сказал в Вюрцбурге (в июле 1937): „Нас ведет длань Провидения, мы действуем по воле Всемогущего. Никто не может творить историю народов и мира без благословления Провидения“. Провидение, которое его избрало, появляется в каждой речи Гитлера, в каждом его воззвании в течение всех этих лет. После покушения 1944 года мы узнаем, что судьба сохранила его, ибо немецкий народ нуждается в нем — в „знаменосце веры“. В своем дневнике от 10 февраля 1932 г. Геббельс описывает речь фюрера во Дворце спорта: „В конце он впал в чудесный ораторский пафос и кончил словом: Аминь! Это прозвучало так естественно, что все люди были глубоко потрясены и растроганы, толпу во Дворце спорта охватил экстаз...“ Это „аминь“ ясно показывает, что общее направление всей этой риторики носит характер религиозный и пастырский. Религиозная кульминация деятельности Гитлера заключается в использовании конкретных христологических оборотов, а затем, по нарастающей, в манере произносить важные партийные речи как проповеди с большой напыщенностью. Но фюрер не может произносить речи ежедневно — даже не должен, божеству подобает пребывать на небесах и чаще говорить устами своих жрецов, нежели собственными. А что касается Гитлера, тут есть еще и дополнительная выгода: его слуги и друзья могут провозглашать его спасителем еще более решительно и без тени смущения, поклоняться ему еще неустаннее и горячее, чем это делал бы он сам. С 1933 до 1945 г., до самой катастрофы, это вознесение фюрера на пьедестал божества, сравнение его личности и деяний со Спасителем и библейскими персонажами свершалось ежедневно, и не было никакой возможности хотя бы в малейшей степени сопротивляться этому. Культовые почести, воздаваемые Гитлеру, лучистый религиозный нимб вокруг его личности, еще более усиливаются благодаря тому, что повсюду, где речь заходит о его деяниях, его государстве, его войне, появляются религиозные эпитеты. Вилл Веспер, руководитель Саксонского отделения Имперской литературной палаты по случаю октябрьской „Недели книги“ провозглашает: „Майн Кампф“ — это священная книга национал-социализма и новой Германии“. Фюрер — новый Христос, особый немецкий Спаситель; великую антологию немецкой литературы и философии от „Эдды“ до „Майн Кампф“, где Лютер, Гете и т. д. занимают лишь переходные ступени, называют „германской Библией“; его книга — „немецкое Евангелие“; его война—„оборонительная священная война“; ясно, что и книга, и война обязаны своей святостью святости самого автора и, в свою очередь, усиливают его ореол. Простая масса ощущает понятие „Третий Рейх“ как религиозное усиление понятия „Рейх“, и без того уже наполненного религиозным смыслом. Дважды существовала Германская империя, дважды она была несовершенна и дважды погибла; однако теперь Третья Империя предстанет во всем своем совершенстве, не рушимая во веки веков. И да отсохнет рука, не желающая ей служить или поднимающаяся против нее! Религиозные выражения и обороты ЛТИ вместе составляют сеть, которая набрасывается на слушателя и затягивает его в область веры». Такова внешняя сторона медали: тяготение к религиозной лексике и символике. Вместе с тем, нам известно увлечение Гитлера и теософией. «Теософы надели на неоязычную магию восточный наряд, снабдили ее индуистской терминологией и открыли люциферствуюшему Востоку путь на Запад». Фуле — остров где-то на севере Германии, ныне исчезнувший из глаз людей; как и Атлантида, был легендарным центром магической цивилизации. Тайное общество Фуле обладало эзотерическими знаниями: «Особенные существа, посредники между людьми и „тем, что там“, располагают хранилищем сил, доступным для посвященных в тайну. Оттуда можно черпать, чтобы дать Германии власть над миром и сделать из нее провозвестницу грядущего сверхчеловечества. Настанет день, когда из Германии двинутся в бой легионы, чтобы смести все препятствия на духовном пути земли. Их поведут непогрешимые вожди, черпающие в Хранилище Сил и вдохновленные великими древними» — Таковы мифы, которыми пророки магического социализма Экарт и Розенберг наполнили медиумическую душу Гитлера. По мнению оккультистов внутренние силы членов группы образуют общую цепь. Но пользоваться ею в целях группы можно только через посредство медиума, который аккумулирует силу, а тот, кто управляет — маг. В обществе Фуле медиумом был Гитлер и магом Гаусгоффер. Раушнинг писал о Гитлере: «Приходится вспоминать о медиумах. В обычное время эти медиумы — рядовые, посредственные люди. Внезапно, так сказать, с неба, к ним падает власть, поднимающая их высоко над общим уровнем. Что-то внешнее, по отношению к личности медиума, он как бы одержим. Затем он опять возвращается к обыденному. Для меня бесспорно, что подобное происходило с Гитлером. Персонаж, носивший это имя, был временной одеждой квази-демонических сил. При общении с ним ощущалось соединение банального и чрезвычайного, невыносимой двойственности. Подобное существо мог выдумать Достоевский: соединение болезненного беспорядка с тревожным могуществом». Штрассер: «Слушавший Гитлера, внезапно видел явление вождя Славы... Будто бы освещалось темное окно. Человек со смешной щеточкой усов преображался в архангела. Потом архангел улетал и оставался усталый Гитлер с тусклым взором». Бушез: «Я видел его глаза, сделавшиеся медиумическими... Иногда происходил процесс преображения, нечто, как виделось, вселялось в оратора, из него исходили токи... Затем он опять становился маленьким, даже вульгарным, казался утомленным, с опустошенными аккумуляторами». Гитлера увлекали силы и учения, не имеющие стройной координации между собой, но от этого еще более опасные. В него набили мысли, далеко превосходящие его собственные мысли, его умственные способности и его возможности самому почерпнуть что-либо подобное путем самостоятельного изучения, самостоятельных размышлений: его переполнили. Народу и своим сотрудникам Гитлер лишь сообщал грубо-вульгаризованные отрывки. По мнению Ж. Бержье и Л. Повеля, «легко представить себе сосуществование марксизма и либерализма, ибо они суть проявления одной Вселенной. Но нет сосуществований между Вселенной Плотина и Вселенной Коперника. Они диаметрально противоположны не только в отвлеченной теории, не и социально, политически, духовно и даже эмоционально. Распознать чужую цивилизацию, которая выросла как гриб за Рейном, нам мешала детская мерка. Для „чужого“ нам нужны магизм, перья, кольцо в носу... Нацистская магия спряталась под техникой. Это была грандиозная новость. Все отрицатели нашей цивилизации — теософы, оккультисты, индуисты и прочие, вернувшиеся или Старавшиеся вернуться к духу древних веков,— всегда были врагами технического прогресса. Магический дух фашизма вооружился всеми рычагами материального мира. Ленин сказал, что Советская власть плюс электрификация всей страны есть социализм. Нацизм в своем роде — это магия плюс танковые дивизии»- Вряд ли можно найти более яркое свидетельство изощренности нацистской пропаганды, нежели снятый вовремя съезда 1934 года режиссером Лени Рифеншталем фильм «Триумф воли». Гитлер сам избрал название и предложил положить в основу сюжета две темы: тему Воли, преодолевающей все препятствия, и тему единства фюрера, партии и народа. Образ Гитлера доминировал здесь над всем и затмевал все: с первых кадров, когда его самолет, идя на посадку, отбрасывал крестообразную тень на маршировавших по улицам штурмовиков и толпы ликующего народа, и до завершающих, когда Гесс произносил магическую формулу: «Партия это Гитлер, Гитлер — это Германия, а Германия это Гитлер. Гитлер! Зиг Хайль!» Гитлер мастерски играл свою роль — роль ритуальной фигуры в мифе, мифе о Вожде, возникшем из безвестности, чтобы вершить судьбы нации. Миф СталинаИнтересно сравнение мифов и способов их формирования современников — Гитлера и Сталина, которое приводит в своей книге «Гитлер и Сталин» А. Буллак: 1. Актерские способности. В критических ситуациях Сталин вполне владел собой, Гитлер же оказывался во власти эмоций — и тои другое было игрой. Сталин скрывал свои чувства и говорил не больше того, что следовало сказать. Гитлер поддавался эмоциям и говорил не умолкая. При этом ему удавалось скрыть свою способность к холодному расчету. Когда Гитлер доводил себя до обычных для него припадков гнева, казалось, что он совершенно не управляет собой: искаженное яростью лицо покрывалось пятнами, он визжал пронзительным голосом, выкрикивал ругательства, дико размахивал руками, колотил кулаками по столу. Однако всем кто его хорошо знал, было известно, что внутри Гитлер сохраняет «ледяную холодность» — выражение, которое часто употреблял он сам. 2. Паранойя. Первые признаки паранойи Сталина стали заметны во время так называемого «шахтинского» процесса. Сталин тогда заявил: «Есть внутренние враги, товарищи. Есть внешние. Об этом никогда нельзя забывать». Только в период, когда происходила кампания по ликвидации кулачества как класса, его паранойя обнаружилась в полной мере. Параноидальный комплекс лежал в основе националистических настроений Гитлера, параноидальная мотивация привела его в политику: он должен был защитить немцев империи Габсбургов, окруженных врагами — славянами, марксистами, евреями. С самого начала своей карьеры он откровенно апеллировал к тем многочисленным гражданам Германии, которые, как и он, испытывали те же параноидальные ощущения, считая себя жертвами тайного заговора скрытых врагов. Все они готовы были откликнуться на призывы политика, который не только разделял, но и уверенно подтверждал их подозрения, это была толпа потенциальных неофитов, ждущих собственного мессию, способного высвободить и отъединить их энергию. 3. Ораторские способности. Гитлер обладал своего рода магнетизмом, способностью воздействовать на массы, очаровывая их. Несмотря на то, что с общепринятой точки зрения, в речах Гитлер было много недостатков: затянутость, повторы, многословие. Он с трудом начинал выступление и слишком резко его обрывал в конце. Однако все это не меняло дела: в его речах была сила и обнаженность страсти, всю глубину ненависти, ярости и угроз доносило само звучание его голоса. Фраза из Ницше хорошо объясняет механизм того воздействия, какое производил Гитлер на аудиторию: «Люди верят в истинность того, что им удается внушить». Кроме того, Гитлер имел особое чутье, он чувствовал аудиторию, понимал мысли и настроения собравшихся людей, вот почему начинал он свои речи неуверенно, ему нужно было ощутить, чем дышит зал, проникнуться настроением публики. Причем связь была двусторонней: Гитлер давал своим слушателям уверенность и надежду, реакция аудитории подкрепляла его чувство уверенности в себе, его самооценку, подтверждавшие созданный им образ. В этом смысле мифический образ Гитлера был в такой же степени творением его поклонников, — в нем они воплощали свои подсознательные стремления — как и самого фюрера, внушавшего им эти стремления. Сталин не обладал подобным даром. Тем более, что способности такого типа были бы неуместны и вызвали бы ответную реакцию у тех слушателей, перед которыми выступал Сталин: ведь это были не толпы на митингах во время предвыборных кампаний, а замкнутый мир центральных органов власти коммунистической партии России. 4. Религиозно-мистические притязания. Философско-историческая традиция, на которую опирался Гитлер, позволяла ему открыто заявлять о своих притязаниях и реализовывать их. В России же все, что было отмечено магнетизмом, способностью вызывать поклонение окружающих, вызывало недоверие — вероятно, потому, что будило ассоциации с религией. Только после смерти Ленин стал объектом поклонения, при жизни он протестовал против любых попыток возвеличить и прославить его имя. Сталин, который отождествлял себя с Лениным, со временем мог претендовать на некую долю величия, заключенного в магии этого имени, и, воспользовавшись благоприятным случаем, положить начало культу собственной личности. Сталин делал вид, что ему претят лесть и восхваления, но если для Гитлера восхищение окружающих было чем-то самим собой разумеющимся, то у Сталина эта потребность оставалась неудовлетворенной, что заставляло его прибегать к различным уловкам. Вот как об этом пишет в своих мемуарах Хрущев: «Осторожно, но настойчиво он внедрял в сознание окружающих идею о том, что его личное отношение к Ленину отличается от того, которое он излагает для широкой общественности». Лазарь Каганович быстро понял намек, выпрямив спину и откинувшись в кресле, Каганович имел обыкновение провозглашать: «Товарищи, пришло время, мы должны сказать народу правду. Все в партии говорят о Ленине и ленинизме. Пора нам честно признаться самим себе. Ленин умер в 1924 году. Сколько лет он работал в партии? Что под его руководством было сделано? Сравните это с тем, что сделано под руководством Сталина! Пришло время сменить лозунг „Да здравствует Ленин!“ на лозунг — „Да здравствует Сталин!“». 5. Своеобразная тактика (последовательность). Смесь наглости, террора и различного рода посулов — такова была тактика Гитлера, вынужденного балансировать между «революцией снизу» и силами консервативной коалиции. Несмотря на повсеместный хаос, на собственные колебания, обусловленные темпераментом, Гитлер твердо придерживался избранного курса и трезво оценивал свои возможности. Летом 1933 года он объявил о конце революции, а годом позже расправился с теми, кто был с этим не согласен. Сомнения, разноречивые слухи, компромиссы, изменения курса и свойственный революционной политике разлад — за всем этим нужно признать главное, которое заключается в том, что Гитлер, равно как и Ленин в 1917-1918 годах, и Сталин, уничтоживший за шесть лет своих соперников и приступивший в 1929-1930 годах ко «второй революции», всегда сохраняли постоянство цели, верно выбирали момент для ее осуществления и при этом неизменно стремились к успешному завершению намеченного. 6. Особенности личности как основы мифа. Именно «миф Гитлера», его легендарный образ позволяет ясно увидеть две стороны его личности как политического деятеля: с одной стороны — его апелляцию к иррациональным, инстинктивным началам в натурах мужчин и женщин, с другой — многочасовые раздумья над тем или иным возможным вариантом действий и его преимуществом над другими. Существуют убедительные свидетельства того, что при отсутствии последовательной программы действий именно личность Гитлера стала центром притяжения, который обеспечивал националистам голоса избирателей и приток новых членов в ряды их организации, несмотря на то, что в то время противники нацизма небыли склонны придавать большого значения фигуре фюрера. Позднее Геббельс утверждал, что «миф Гитлера» — самое выдающееся достижение его пропагандистского аппарата. Немаловажно, однако, что и Геббельс — во многих отношениях самый циничный из нацистских лидеров подобно самому Гитлеру поверил в сотворенный им миф. Он исповедовал культ, созданию которого способствовал сам. Геббельс участвовал в последнем гротескном действии «третьего рейха», он единственный из всех нацистских боссов присоединился к Гитлеру, прощальное подтверждение верности фюреру было скреплено печатью убийства. Умертвив членов своей семьи, Геббельс покончил с собой. Секрет властного воздействия мифа заключался в сочетании искренней веры народа с изощренной обработкой общественного мнения. Никто не относился к «мифу Гитлера» с такой серьезностью, как сам Гитлер, равно озабоченный и тем, как миф внедряется в сознание народа, и тем, какова была реакция народа на распространяемую легенду. Прежде чем принять какое-либо решение, он тщательно оценивал, как оно могло повлиять на общественное мнение, как могло отразиться на образе «фюрера». Пока чувство особого предначертания, составляющее сердцевину гитлеровского «мифа» («С уверенностью лунатика я иду путем, который указует Провидение») уравновешивалось «ледяной холодностью» расчетов политика-прагматика, оно было для него источником неиссякаемой силы. Но успех оказался фатальным для Гитлера. Когда у его ног оказалась половина Европы, мания величия овладела фюрером, он уверился в собственной непогрешимости. Вместо того чтобы воспользоваться существующим мифом, он стал ждать от сотворенного образа самопроизвольных чудес, в результате талант Гитлера потускнел, его стала подводить интуиция. В отличие от Гитлера, Сталин намеренно избегал прямого контакта с народом. Его преследовал страх перед покушением, в толпе он чувствовал себя неуютно, ему не хватало умения Гитлера завладеть массовой аудиторией, он знал, что, чем меньше его видят те, кем он правил, тем легче внушить свой образ — человека недостижимого и всевидящего. 7. Время возникновения мифа. Миф Гитлера зародился на раннем этапе его карьеры, когда ему было тридцать с небольшим и спонтанно возник в среде его соратников по партии еще до того, как это осознал сам Гитлер, в то время крайне далекий от рычагов государственной власти. Применительно к Сталину о первом появлении его культа можно говорить с 1929 года (оно было сопряжено с его пятидесятилетним юбилеем), однако постоянной чертой общественной жизни России этот культ становится лишь во второй половине 1933 года. Первые проявления культа Сталина относятся к октябрю 1929 года и отмечены всеми признаками инициативы, исходившей из официальных источников. В газетах появились статьи под заголовками примерно такого рода: «Под мудрым руководством нашего великого и гениального вождя и учителя Сталина»; на страницах официальной биографии, которая подчеркивала тождественность Ленина и Сталина как ведущих фигур в мировом революционном движении, титул «вождь» употреблялся только применительно к имени Сталина: «Все эти годы после смерти Ленина Сталин, являвшийся самым выдающимся из продолжателей дела Ленина, его самым верным учеником, вдохновителем важнейших мероприятий партии в борьбе за построение социалистического общества — стал всеми признанным Вождем партии и Коминтерна». 8. Способ создания мифа. Сталин всячески подчеркивал свою связь с Лениным; имело место как бы ретроспективное «рукоположение», установление апостольской преемственности — традиция через Ленина восходящая к Марксу и Энгельсу. Гитлер не нуждался в подобном «рукоположении». С конца 1933 года был разработан целый ритуал партийного «обожествления» Сталина. Художники, скульпторы, музыканты, поэты и журналисты были призваны к высокому служению; чеканились медали, рисовались портреты. Подобно бюстам Августа — обязательной принадлежностью каждого города Римской империи, портреты Сталина были распространены повсеместно. Вскоре на территории СССР не осталось ни одной школы, учреждения, фабрики, шахты или колхоза, стены которых не были бы украшены портретами Сталина, не было ни одной организации, которая удержалась бы от восторженных приветствий «нашему любимому вождю» по случаю каких-либо праздников. В создании культа Сталина участвовало и партийное руководство. На ленинградской партийной конференции, проходившей накануне «съезда победителей», собравшегося в январе 1934 года, не кто иной, как Киров, заявил: «Личность такого масштаба, как Сталин — трудно постижима. За прошедшие годы не было никого, кто так отдавал бы себя всего работе, нет ни одного большого начинания, ни одного призыва, ни одной директивы в нашей политике, автором которой не был бы товарищ Сталин». В этом же месяце в «Правде» был опубликован поэтический опус со знаменательным двустишием: Теперь, когда мы говорим Ленин, Напротив, Грегор Штрассер в начале 1927 года в своем воззвании определил отношения между Гитлером и рядовыми членами партии как отношения между Вождем и вассалами: «Вождь и вассалы! Только древней Германии с ее аристократизмом и с ее демократией, ведомы те отношения между ведущим и ведомыми, свойственные только германскому духу, которые и составляют суть структуры НСДАП... Друзья, поднимем правую руку и вместе гордо воскликнем, готовые к борьбе и преданные до конца: „Хайль Гитлер!“». Столь личностное отношение к человеку, а не к возглавляемой им организации, противоречило социалистической традиции и этике марксистско-ленинской партии, в арсенале ценностей которой существовал только авторитет партии, но отнюдь не ее лидера. Черты русского национализма и псевдорелигиозной окрашенности, какую приобрел культ Сталина, объясняются тем, что Сталину удалось оживить мощные древние инстинкты народного духа, оказавшиеся подавленными после ликвидации царизма и запрещения православной церкви. В отсутствие этих символов веры народ получил новый объект для почитания — не партию, но государство с его единовластным правителем, преемником царей, и наследником Ленина и революции. Фигуры самодержавных правителей прошлого— таких, как Петр I и Иван Грозный — обладали в России необыкновенной притягательной силой, становясь объектами поклонения и для Сталина, и для рабочих и крестьян этой страны, заполняя пустоту, зиявшую между правительством и народом. С началом Великой Отечественной войны Сталин, который для многих был просто именем и изображением, стал средоточием чувств патриотизма и национальной гордости, своего рода чудотворной иконой: с его именем миллионы шли в бой и на смерть. Такая эволюция культа Сталина еще больше сближает его с мифом Гитлера, и в том, и в другом случае налицо — стремление к поклонению, заменяющему религиозное, тоска по Мессии, принимающем облик Вождя, жажда спасения, а не готовность решать проблемы. Ян Киршоу отмечает, что еще в 1932-1934 годах в сознании немцев наметилась тенденция воспринимать фюрера отдельно от его соратников по партии: начала действовать легенда «если бы только фюрер знал». Расправа с Ремом была воспринята как свидетельство готовности Гитлера действовать со всей решимостью в случае, когда от фюрера не удалось более скрывать вероломство СА, обманувших его доверие. Явление в точности такого же порядка (т. е. стремление снять со Сталина всякую вину за злодеяния якобы свершенные его подручными) наблюдается в Советском Союзе, причем не только среди крестьянской массы, но и среди интеллигенции. Илья Эренбург в своих мемуарах признается, что думал о Сталине как о неком ветхозаветном Боге, и вспоминает, как во время встречи с Пастернаком, когда повсюду свирепствовали репрессии, тот произнес все ту же фразу: «Если бы он знал». 9. Средства создания мифа. Благодаря современной технике оба диктатора пользовались возможностями, далеко превосходящими те, какие имели в своем распоряжении политические лидеры прошлого. Как Гитлер, так и Сталин поистине были вездесущими: их лица смотрели на вас с каждого рекламного щита, со стен учреждений, с кадров кинохроники, их голоса звучали по радио, а радио должны были слушать все. 10. Скрытность (недосказанность) мифологической личности. При этом трудно найти в истории другие фигуры, о которых было бы так мало известно с точки зрения их индивидуальной, человеческой сути, ускользавшей даже от тех, кто работал с ними рядом и соприкасался с ними почти ежедневно. Генерал Йодль — ближайший советник Гитлера по военным вопросам, писал своей жене в 1946 году, ожидая суда в Нюрнберге: «Я спрашивал себя: знал ли я вообще этого человека, рядом с которым прожил столько трудных лет?.. Даже сегодня я не знаю, что он думал, знал, намеревался сделать; мне известно лишь, что я сам об этом думал или мог предположить». По мнению тех соратников Сталина, которым удалось остаться в живых — таких как Хрущев, — Сталин был человеком столь же непостижимым, его реакции были непредсказуемы, предугадать, прочитать, по внешнему виду его намерения было невозможно. Оба диктатора стремились скрыть свою истинную индивидуальность, извлекая в то же время максимальные выводы из тех личностных особенностей, какие были им присущи. Успех обоих в политике во многом определялся их способностью так же тщательно скрывать от союзников, как и от противников собственные мысли и намерения. Они не только не обнаруживали своих целей или планов на будущее, но и избегали делать достоянием окружающих свое прошлое. (Вспомним, что то же мы знаем и о Ленине). Все попытки выяснить какие-то обстоятельства их биографий, найти людей, знавших их в прошлом, были обычно обречены на неудачу, и после прихода их к власти, становились небезопасными. Миф Гитлера и культ личности Сталина оставались главным стержнем их власти, поэтому все, что могло нарушить стройность официальной версии, пресекалось. Всячески способствуя популярности создаваемого пропагандой образа, Гитлер и Сталин делали все возможное, чтобы сведения об их частной жизни были недоступны широкой общественности. Понять их успех еще сложнее, когда становится ясно, что оба банальны и лишены каких-то человеческих чувств. Итак, если рассмотреть мифологическую роль Бога как корпус суггестивных текстов (условно их можно слить в миф-текст), то этот текст будет характеризоваться следующими особенностями: 1. Неопределенность (недосказанность) самой личности. 2. Наличие у нее чего-то особенного, отклоняющегося. 3. Амбивалентность формы и содержания. 4. Стремление к эмоциональной насыщенности. 5. Ориентация на «мифологическую нишу» массового сознания. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |
||||
|
|
||||
