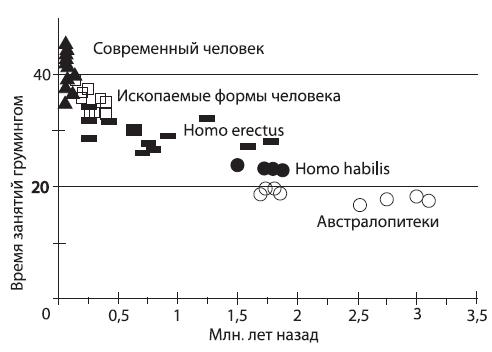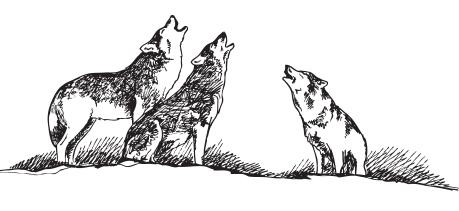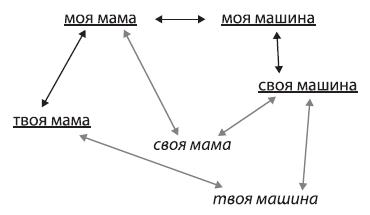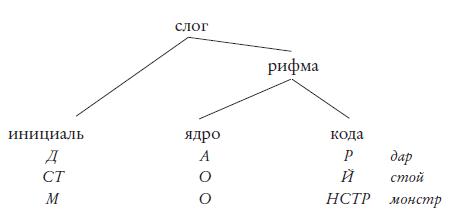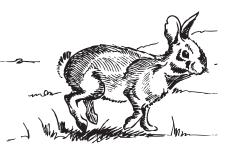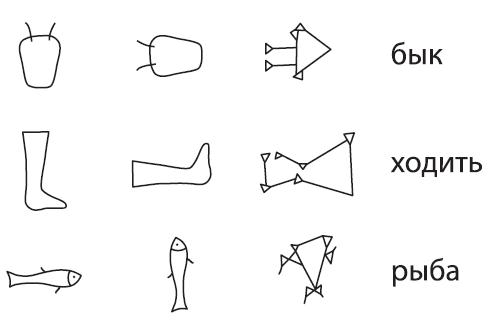|
||||
|
|
Глава 6 Гипотезы о происхождении языка Гипотез о происхождении языка по-прежнему много, и в этой главе мы сможем рассмотреть лишь некоторые из них. Как ни удивительно, до сих пор еще иногда всерьез обсуждается идея о том, что язык был дан человеку в готовом виде одномоментно высшими силами. На мой взгляд, такая гипотеза недоучитывает способности природы к самоорганизации: когда из атомов строятся молекулы, из молекул — живые клетки, работа клеток и их систем — органов и тканей — обеспечивает жизнь организмов, нет необходимости в каком-либо внешнем творце, который бы организовывал все эти процессы. При задании нескольких базовых физических констант все это с необходимостью произойдет само1. То же самое, на мой взгляд, касается и развития коммуникативных систем. Гипотеза о внешнем источнике возникновения человеческого языка не только лишает исследователя возможности обнаружить те естественные закономерности, которые приводят к его появлению с той же неизбежностью, с какой камень, брошенный вверх, падает вниз под действием силы тяжести. Она к тому же представляет предполагаемого Творца убогим кустарем, который не в силах создать механизм, работающий самостоятельно, и вследствие этого оказывается вынужден все время быть начеку и то и дело подправлять работу своего творения. Большинство исследователей, пытающихся разрешить проблему глоттогенеза, стремятся учитывать информацию, накопленную в других областях науки. Но зачастую сведения, которыми они располагают, крайне фрагментарны. О том, насколько пагубно это сказывается на исследованиях, свидетельствует, например, недавняя работа отечественного лингвиста Юрия Викторовича Монича2. Автор осознает комплексный характер проблемы глоттогенеза и пытается привлекать к рассмотрению материалы этологии. Но из всего обширнейшего массива данных, накопленных в этой области, он берет лишь то, что у животных существует агрессивное и умиротворяющее поведение, а также ритуалы. Соответственно, в рамках его гипотезы язык возникает из ритуала, в первую очередь — из ритуала клятвы верности своему племени. Он пишет: “Ритуализованный знак, маркирующий территорию первобытного коллектива, символизирующий его внутреннюю сплоченность и обороняющий его от внешнего мира, — амбивалентен и — подобно ненормативной лексике русского языка — “всереферентен”, т. е. потенциально чуть ли не бесконечно многозначен”3. Язык, по его мнению, начинался с отдельных слов, причем эти первые слова были клятвами верности, символизировавшими первобытные сообщества. Слово — клятва верности своей группе — было одновременно и угрозой чужим группам. Возникновение языка в таком виде Монич связывает с верхнепалеолитической революцией и появлением пещерной живописи, относя этот период ко времени 15–20 тыс. лет назад (без обсуждения других предлагавшихся датировок)4. Я надеюсь, что читатель, уже знакомый с главами 3 и 4 настоящей книги, в состоянии составить собственное суждение о степени убедительности данной гипотезы. Подобного рода построения, базирующиеся прежде всего на умозрении, а также на недостаточной компетентности автора в различных отраслях знаний, появляются и за рубежом. Например, немецкий исследователь Вольфганг Вильдген5рассматривает язык как проявление индивидуальной креативности: язык, по его мнению, был изобретен тем, кто первым сказал предложение. Примером креативности в языке служат для него лексические инновации, поскольку другие инновации не дают возможности проследить роль индивида. Вильдген пытается обнаружить “ископаемые” свидетельства эволюции языка в современном словаре: здесь основой для рассуждений о глоттогенезе служит лексика (и базовый синтаксис) живых языков (практически исключительно английского, немецкого и французского), более конкретно — фразеологизмы с использованием названий “руки” и “глaза”. В центре внимания исследователя оказывается схема хватания, которое представляет собой двухвалентное действие и тем самым подготавливает разум к появлению валентностей. Вильдген неоднократно говорит о своем стремлении построить синтетическую неодарвинистскую теорию, базирующуюся на эволюционной биологии и генетике6, о “в основном биологической… перспективе” своей работы7; вообще, по его мнению, теория глоттогенеза “может сосредоточиваться преимущественно на биологических процессах, которые вызывают генетические, анатомические и (основные) поведенческие изменения”8. Тем не менее, его познания в биологии более чем отрывочны. Так, говоря о “трех-четырех” вокалических сигналах человекообразных обезьян (англ. apes), автор явно имеет в виду верветок, которые с точки зрения английского языка относятся к monkeys(у человекообразных обезьян сигналов больше, но такой четкой референциальной соотнесенности, как у верветок, нет9), называет неандертальца Homo neanderthalensis10, что соответствует представлению о том, что неандертальцы и кроманьонцы являются разными видами, а кроманьонца — Homo sapiens sapiens11, что уместно, лишь если считать кроманьонца и неандертальца подвидами одного вида. Важная для авторской концепции идея о том, что для передачи “достижений гения” непременно нужен язык, могла возникнуть исключительно благодаря незнанию “культурных” традиций, зафиксированных не только у шимпанзе, но даже у макак (см. гл. 5). Соответственно, биология для В. Вильдгена практически сводится к передаче генов, мутациям и давлению окружающей среды. Не очень сильна и лингвистическая сторона его работы. Так, говорить о необходимости создания (и об отсутствии в настоящее время) теории, объясняющей языковые изменения, по меньшей мере странно при наличии огромного количества работ, где такая задача не только ставится, но и во многом успешно решается12. В его книге встречаются такие курьезные ошибки, как попытки этимологического сближения нем. Hand “рука” и Hund “собака”13, безоговорочное отнесение прилагательных к сущностям именной природы14, а также утверждение о том, что реконструкция языков десяти-тысячелетней древности — дело типологии15. Нет нужды говорить, что автор не приводит материала ни из одного языка, где прилагательное было бы не именем, а, скорее, глаголом (таков, например, японский язык, где прилагательные, подобно глаголам, изменяются по временам), и не ссылается ни на одну компаративистическую работу, в которой предлагалась бы реконструкция глубокого уровня16. Работ такого качества достаточно много, но рассматривать их не слишком интересно, поскольку их недостатки настолько перевешивают достоинства, что ни о каком осмысленном вкладе в решение проблемы глоттогенеза говорить не приходится. Перейдем теперь к гипотезам, которые, на мой взгляд, без натяжки можно назвать научными. Их тоже немало. Одни исследователи выдвигают совершенно новые гипотезы, другие пытаются подобрать новые аргументы к старым. Так, например, психолог Майкл Корбаллис17возрождает теорию происхождения звучащей речи от жестов. Когда предки человека стали ходить на двух ногах, их передние конечности — руки — освободились, и это дало возможность жестикулировать. Кроме того, выпрямившиеся люди стали смотреть в лицо друг другу, и мимика стала играть большую роль в общении. Но потом люди стали делать орудия, и их руки оказались заняты, — тогда, по мнению Корбаллиса, основная нагрузка легла на мимические жесты (и сопровождающие их возгласы). В результате жесты постепенно сместились внутрь рта — превратились в артикуляцию языковых звуков. Корбаллис называет даже приблизительное время, когда это произошло, — около 40 тысяч лет назад, в период верхнепалеолитической революции. Наскальная живопись, костяные иглы, украшения, новые технологии обработки камня — в ту эпоху возникло и распространилось огромное количество культурных новшеств. По мнению Корбаллиса, одним из таких культурных новшеств был и звуковой язык. Этот язык оказался лучше жестового, и поэтому люди, говорившие на нем, сумели вытеснить своих предшественников. В гипотезе Корбаллиса, безусловно, есть рациональное зерно: действительно, у приматов звук, в отличие от жестов, не подконтролен воле, поэтому новые знаки могли первоначально создаваться только на базе жестов. Весь вопрос в том, когда это происходило. И здесь гипотеза Корбаллиса вступает в противоречие с данными приматологии и антропологии: как уже говорилось в гл. 4, придавать жестам значение, необходимое для сиюминутных нужд, способны не только человекообразные обезьяны, но даже павианы. С другой стороны, уже первые представители нашего вида, неоантропы, появившиеся более 100 тысяч лет назад, имели очень развитые анатомические приспособления для членораздельной звучащей речи — и только для нее (в остальном эти приспособления скорее вредны — см. гл. 2). А сложные (и тем более связанные с риском) анатомические структуры не могут сформироваться “просто так”, без крайней необходимости, поэтому поверить, что переход от жеста к звуку связан с верхнепалеолитической революцией, невозможно. Не исключено, что жестами могли широко пользоваться неандертальцы — у них было крупное лицо, большие, широко расставленные глаза18, более развитые, чем у неоантропа, затылочные отделы мозга (именно там у всех приматов, включая человека, расположены зоны коры, связанные со зрением). Впрочем, это не более чем догадка. С жестами связывает происхождение языка и М. Томаселло19. Человеческая коммуникация, по его мнению, началась с указательных жестов и пантомимы — они легко понятны без предварительной подготовки, поскольку апеллируют либо к тому, чтo оба собеседника могут увидеть, либо к тому, чтo легко представить себе по иконическому изображению. В их основе лежат склонности, во-первых, следить за взглядом, а во-вторых, интерпретировать поведение окружающих (считая по умолчанию, что если они что-то делают, то делают намеренно и с какой-то целью). Эволюцию языка Томаселло представляет следующим образом. У далеких предков человека (как и у современных человекообразных обезьян) были жесты, привлекающие внимание (например, похлопать по земле, чтобы сородичи услышали и обернулись), и движения намерения (представляющие собой начальные фазы соответствующего действия). Эти приматы могли понимать чужие цели и намерения, знать, что другой особи видно или слышно, а что — нет, и т. п. Потом постепенно возникают совместные цели и намерения, общее поле внимания, понимание того, чтo известно другому (в том числе того, чтo этот другой знает о знаниях окружающих). Жест сам по себе несет не слишком большое количество информации, и, чтобы верно понять намерение “говорящего”, необходимо иметь достаточно много общих с ним знаний (и знать, что эти знания действительно являются общими). Томаселло приводит такой пример (из современной жизни): если некто идет с девушкой по территории университета и, проходя мимо библиотеки, указывает ей на один из велосипедов, стоящих около входа, то для того, чтобы понять, чтo имеется в виду, девушка должна знать не только то, что этот велосипед принадлежит ее бывшему приятелю, с которым она теперь избегает встреч, но и то, что вся эта информация известна ее спутнику, — если она не знает, что он знает об этом, она не сумеет верно интерпретировать его жест (а он, если не знает, что она знает, что он это знает, вряд ли станет указывать ей на этот велосипед). Разумеется, в древности ситуации были другими, но способность знать о знаниях другого сыграла чрезвычайно важную роль в становлении языка. Далее появляется стремление к кооперации (в том числе в общении) и ожидание кооперативного поведения от партнеров по коммуникации, желание информировать других и, наконец, формируются общественные нормы. Именно возможность иметь совместные цели, стремление к сотрудничеству и взаимопомощи Томаселло считает главными движущими силами, приведшими к появлению человеческого языка. Он специально отмечает, что язык не мог быть предназначен для обмана сородичей20: в такой ситуации никто не стал бы тратить усилия, стараясь понять, что сообщает податель сигнала, и язык не возник бы. Скорее, развитие языка шло вместе с когнитивным развитием, вызванным необходимостью объяснять, предсказывать и контролировать поведение сородичей21. В ходе эволюции сначала жесты, привлекающие внимание, сменяются указательными жестами, затем движения намерения превращаются в пантомиму; в конце концов формируется конвенциональный звуковой язык, в котором место пантомимы занимают знаменательные слова, а место указательных жестов — служебные. Переход от иконических знаков к символьным мог быть осуществлен на этапе жестовой речи и был, по гипотезе Томаселло, подобен стиранию метафор22: когда жест, иконически соотнесенный с некоторым действием, стали употреблять те, кто с этим действием не знаком, произошел отрыв формы знака от его смысла. С этого момента начинается фиксация формы знаков: теперь они опознаются не вследствие своего сходства с изображаемым действием, а исключительно в силу того, что их исполняют стандартным, привычным образом. Звуковые же знаки, по мнению Томаселло, появились уже после этого (поскольку они не могут быть иконичны). Первоначально звуковые сигналы были, вероятно, лишь эмоциональным дополнением к значащим жестам; переход же коммуникации на звуковой канал мог быть связан либо с необходимостью общаться на значительном расстоянии, либо с желанием повысить собственный статус, сообщая информацию сразу всей группе, а не каждому ее члену по отдельности. Томаселло показывает23, что те характеристики человеческого сознания, которые необходимы для нормального функционирования языка, возникли из нашего общего с обезьянами наследия (в частности, предшественниками грамматических способностей являются имеющиеся у приматов тенденции разделять события и их участников, а также строить достаточно длинные последовательности действий для достижения цели), несколько видоизменившись вследствие изготовления орудий, совместной деятельности (с общей целью) и возросших требований к групповой сплоченности. Очень много сторонников имеет гипотеза Н. Хомского24 — гипотеза врожденности языка и наличия в мозгу человека Универсальной Грамматики. Но, как уже было показано в гл. 2, для того, чтобы у ребенка при овладении языком сформировалась грамматика, достаточно общекогнитивных принципов обработки информации, прежде всего желания “искать структуру в хаосе”. Кроме того, как мы видели в гл. 5, гены просто по своей природе не могут кодировать грамматические сведения. Н. Хомский постепенно модифицирует свою гипотезу, поэтому в его новых публикациях появляются идеи, иногда даже противоречащие тому, что он писал ранее. Например, недавно громоздкие синтаксические правила (якобы имеющиеся в голове каждого человека от рождения) были заменены “операцией слияния” (англ. merge) — каждое слово представляет собой синтаксическую составляющую, два слова, сливаясь, образуют синтаксическую составляющую следующего порядка, которая дальше может сливаться с другими синтаксическими составляющими — до тех пор, пока не получится законченное предложение. Для того, чтобы пользоваться операцией слияния, необходима способность к рекурсии — и именно она признается основой человеческой языковой способности. Адаптивный смысл языка, согласно гипотезе Хомского, состоит в обеспечении мышления25. В своей книге “О природе и языке” он пишет: “Язык не считается системой коммуникации в собственном смысле слова. Это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Ее, конечно, можно использовать для коммуникации… Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка”26. Далее он вполне справедливо замечает, что “если вы хотите исключить взаимное непонимание, то конструкция языка для этой цели неудачна, поскольку существуют такие свойства, как неоднозначность. Если вы хотите, чтобы было такое свойство, чтобы то, что нам обычно нужно сказать, выходило коротко и просто, ну, что тут скажешь, наверное, в языке просто нет такого свойства”27. Но значит ли это, что появление языка было обусловлено не потребностью в коммуникации, а потребностью в обеспечении мышления? Видимо, все же нет: ведь если бы язык был нужен только (или в первую очередь) для “бесед” с самим собой, ему не понадобились бы ни возможность тонко различать звуки (и связанные с этим анатомические особенности речевого аппарата), ни падежи, ни согласование, ни порядок слов — то есть все то, что необходимо для линейной последовательности кодирования информации28. Кроме того, язык, нужный прежде всего для мышления, мог бы развиваться у детей, лишенных общения с другими людьми, — ведь мыслить им никто не мешает! Но, как мы знаем, этого не происходит: если человек в детском возрасте не будет общаться с людьми, он не овладеет языком — несмотря на предполагаемое наличие у него врожденной языковой способности. Одним из наиболее последовательных нативистов — сторонников врожденности языка — является Д. Бикертон29. Его главные аргументы — креолизация пиджинов и быстрое усвоение языка детьми (то, что называется “грамматическим взрывом”, см. гл. 1). А раз язык является врожденным, то, по мнению Бикертона, возникнуть он мог только одномоментно, в результате генетической мутации, происшедшей у прародительницы человечества — “митохондриальной Евы”. Внезапность появления языка подчеркивается самим названием его совместной с У. Кэлвином книги “Lingua ex machina” — буквально (в переводе с латыни) “Язык из машины”, то есть язык, возникающий внезапно и как бы ниоткуда, как deus ex machina (“бог из машины”) в античном театре. Книга эта написана в форме писем Бикертона к Кэлвину, у которого он стремится найти ответы на вопросы о том, в каких мозговых структурах локализована врожденная языковая способность, и ответных писем Кэлвина. У предков человека существовал, по мнению Бикертона, “протоязык”, изначальный словарь которого был равен нулю, но потом, постепенно, понемногу, добавлялись новые символы. Символы, по Бикертону, возникли примерно на два миллиона лет раньше, чем собственно язык. Сначала наши предки применяли смешанные формы коммуникации — пользовались как жестом, так и звуком, но потом ключевая роль в процессе общения перешла к звуку, поскольку пользоваться жестами неудобно, например, в темноте или в густых зарослях. Бикертон рисует протоязык состоящим почти исключительно из существительных и глаголов. Таких “модификаторов”, как прилагательные или наречия, в протоязыке еще не существовало, они появились значительно позднее. В протоязыке же слова вовсе не взаимодействовали друг с другом, так что речь выглядела примерно так, как выглядит речь на плохо выученном иностранном языке или пиджине — мучительные поиски слова, борьба за его произнесение, потом мучительные поиски следующего слова. Переход от протоязыка к собственно языку Бикертон уподобляет переходу от пиджина к креольскому языку. Моментом возникновения языка Бикертон считает возникновение связей между словами в рамках высказывания, прежде всего — возникновение аргументной структуры, т. е. разделение глаголов на одно-, двух- и трехвалентные. Это стало возможным благодаря той самой генетической мутации, происшедшей у “митохондриальной Евы”, в результате которой возник синтаксический анализатор и синтезатор, а также перестроился весь речевой аппарат. Основной функцией языка Бикертон, как и Хомский, считает обеспечение мышления — именно для обеспечения сложных мыслительных процессов и нужен сложный синтаксис, которому Бикертон отводит ключевую роль в возникновении человеческого языка. Мышление же во многом было направлено на интерпретацию поведения сородичей, становившегося все более и более сложным. По гипотезе Бикертона, “протоязык”, состоявший исключительно из слов и лишенный грамматической структуры, давал преимущества лишь в добыче пищи, синтаксис же смог сложиться только в социуме: практика реципрокного альтруизма, по его мнению, вынуждала индивидов к постоянным подсчетам, кто что (и главное — сколько!) для кого сделал, сколько чего и кому должны сделать они сами. Это привело к пониманию семантических ролей, а потом и к закреплению их в синтаксисе. На самом деле, Бикертон здесь не учитывает данные приматологов: практика реципрокного альтруизма имеется и у обезьян30, не имеющих языка, но, как показывают исследования, умеющих вполне четко оценивать, “кто кому сколько должен”31. Более того, “к настоящему времени получено немало данных о способности животных — главным образом приматов — к взаимозачету не только благодеяний, но и нанесенного им ущерба при “планировании” поведения относительно других особей своего вида”32. Способность к очень точному учету альтруистических действий продемонстрировали в эксперименте Джералда Уилкинсона33 летучие мыши-вампиры. Было выяснено, что они могут делиться пищей (в первую очередь с родственниками, во вторую — с неродственными друзьями), но право на такую помощь (вампир отдает пищу, которая могла бы обеспечить ему 12 часов жизни) имеют лишь те, кому до голодной смерти осталось не более 24 часов. Летучие мыши четко помнят, кто помогал им, и в случае необходимости кормят именно своих благодетелей. К появлению у вампиров языка все это, однако, не приводит. И Н. Хомский, и Д. Бикертон, и многие другие ученые (прежде всего американские34) считают синтаксис определяющей частью человеческой языковой способности. Но так ли он нужен? Если в голове слушающего заранее присутствует обобщенная модель ситуации, и требуется лишь уточнить некоторые детали, проще обойтись без синтаксиса: так, цепочка Два — Крюково — обратно понимается кассиром на железнодорожном вокзале не хуже, если не лучше, чем цепочка Не могли бы Вы продать мне два полных билета на электричку до станции Крюково, позволяющих доехать туда и вернуться обратно? В ситуациях стандартных нередко бывает достаточно совсем незначительных элементов коммуникации. Например, довольно сложный комплекс действий по приготовлению чая и выставлению на стол разнообразных сладостей может быть запущен обменом всего двумя совершенно лишенными синтаксиса репликами: Чаю? — Угу!, — а иногда может хватить и нечленораздельного междометия с вопросительной интонацией, сопровожденного указанием рукой на чайник, и того же ответа Угу! (если же чаепитие — установившийся порядок встречи кого-либо из ваших знакомых, то можно обойтись и вовсе без слов, последовательность действий будет запускаться самим фактом появления этого человека у вас в гостях). Вполне вероятно, что столь же стандартизированные ситуации, с которыми встречался в повседневной жизни первобытный человек, требовали столь же малого участия коммуникативной системы. Как отмечает М. Томаселло, чем бoльшим объемом общего знания о конкретной ситуации располагают собеседники, тем меньше им необходимо сообщать друг другу эксплицитно, т. е. говорить (или показывать) в процессе общения35. Особенно наглядно это бывает видно на материале детской “эгоцентрической речи”: владея полной информацией о ситуации, ребенок фиксирует свое внимание лишь на некоторых деталях, поэтому в его высказываниях нередки пропуски и синтаксические нарушения36. Сходным образом выглядит и общение на пиджине — слова преимущественно конкретные, грамматика (как обязательный способ оформления высказываний) отсутствует, предложения по большей части короткие (от одного до трех слов), сложные предложения строятся при помощи соположения, а не вставления одного простого предложения (или, точнее, предикации) в другое, высказывания строятся на основе прагматических, а не синтаксических принципов, и вся коммуникация в целом сильно зависит от внеязыкового контекста. Вероятно, как пишет Т. Гивон, примерно так же была устроена коммуникация у гоминид до появления настоящего языка37. Быстро и без помощи синтаксиса позволяют обрисовать положение дел существующие во всех языках слова-“свертки”, такие, как, например, рус. тёща — “мать жены”, почём — “сколько денег вы захотите с меня потребовать, если я захочу купить это”. Синтаксис же нужен для того, чтобы вложить в голову слушающего обобщенную модель ситуации, которая ранее там отсутствовала. Действительно, синтаксические средства направлены прежде всего на то, чтобы слушающий мог быстро сообразить, кто какую роль играет в описываемых собеседником событиях. Синтаксис — средство добиться, чтобы воспринимающий сообщение мог понять, каким образом разные элементарные сигналы в рамках длинной реплики соотносятся друг с другом, чтобы он мог предсказывать хотя бы отчасти, что будет сообщено дальше, поскольку, если он уже заранее чего-то ждет, правильность распознавания этого будет обеспечена более надежно. Пока ситуации были достаточно стереотипны, их можно было — хотя бы в общих чертах — помнить все, и спроса на синтаксис не было. А когда в ситуациях, с которыми стали встречаться гоминиды, элемент новизны сильно возрос, когда стало важно обращать внимание на все большее количество нюансов, востребована оказалась возможность вкладывать больше детализированной информации в одно высказывание, производить длинную цепочку знаков (более одного или, может быть, даже более двух) за одну “реплику”. Те, кто смог реализовать эту возможность, получили синтаксис. У существа всеядного (какими были, судя по данным анатомии, все те представители рода Homo, которые могут рассматриваться как кандидаты на роль прямых предков человека разумного) вероятность встречи с нестандартными ситуациями весьма высока. Для всеядного существа, использующего орудия, такая вероятность возрастает многократно, поскольку использование орудий создает множество дополнительных возможностей, увеличивая число моделей поведения, которые можно реализовывать и из которых можно выбирать. Еще более востребованным становится синтаксис в ситуации передачи опыта и знаний в виде текстов, поскольку, приступая к восприятию текста, слушающий еще ничего не знает о той ситуации, о которой намеревается рассказать говорящий. М. Томаселло связывает появление синтаксиса с желанием информировать окружающих: пока предки человека, подобно современным обезьянам, использовали коммуникацию прежде всего для просьб, они, как показывают данные языковых проектов, вполне могли обходиться минимумом грамматики38. Для другого сторонника нативизма, С. Пинкера39, язык — это прежде всего одна из составляющих комплексной “адаптации к когнитивной нише” (так называется одна из его статей): специализация человека — улавливание внутренних связей между событиями окружающей действительности, и язык является одним из средств приспособления к этому. Основной функцией языка С. Пинкер считает коммуникативную: язык, по его мнению, возник для обмена информацией, для того, чтобы один индивид мог передать правдивые сведения о мире другому индивиду. Пинкер, как и Хомский, считает языковую способность врожденной, но, в отличие от Хомского, для Пинкера главная ее составляющая — не рекурсия, а универсальный словарь, “мыслекод” (см. гл. 1). Пинкер не считает, что язык мог возникнуть в результате одной-единственной мутации, поскольку, как он пишет, “один-единственный ген не отвечает, еще раз повторяю, не отвечает за схему, лежащую в основе грамматики”40. Но, поскольку взаимоотношение между определенными генами и определенными наблюдаемыми свойствами не прямое, а дважды опосредованное, в предположении о “грамматическом гене” просто нет необходимости. По мнению Пинкера, язык возник не одномоментно, а постепенно, наиболее обычным для эволюции путем — путем естественного отбора через накопление мелких мутаций. Маленькие шаги, усиливающие существующую функцию, могут не только развить какие-то уже имеющиеся у организма “модули”, но и привести к возникновению нового “модуля” “из ничем не отличавшегося ранее от других анатомического участка, или из закоулков и щелей других существующих модулей”41. Таким путем, по мнению Пинкера, возникли “языковые зоны” мозга — зона Брока и зона Вернике. У обезьян в мозгу есть гомологи этих зон, но они не включены в управление звукопроизводством. Эволюция языка, по Пинкеру, должна была идти небольшими шагами, так, чтобы каждая промежуточная стадия развития коммуникативной системы давала бы увеличение приспособленности и повышала бы преимущества при размножении для потомков. “Отбор мог “запустить” формирование языковых способностей, поощряя в каждом поколении тех говорящих, которых лучше всего могли понять слушающие, и слушающих, которые лучше всего могли понять говорящих”42. Один из наиболее последовательных противников нативизма — Т. Гивон43. Синтаксис с рекурсивным вставлением составляющих — это, по его мнению, не “загадка эволюции” и не цель адаптации. Скорее, это побочный результат действия тех предпосылок, которые обусловили возникновение грамматики. Грамматика, в свою очередь, представляет собой эволюционно последний компонент языка, развившийся на базе множества свойств, послуживших для нее преадаптациями. Поэтому маловероятно, чтобы в мозге существовал особый “грамматический модуль” (“языковой орган”) или чтобы возникновение грамматики определялось единственным “грамматическим геном”. Скорее, грамматика воплощается в мозге как сеть, объединяющая между собой различные, существовавшие до появления грамматики “модули”: на нее работает семантическая память (хранящая слова), способность к восприятию событий (позволяющая строить предложения), эпизодическая память (дающая возможность вспоминать события и выстраивать их описание в цепочку предложений), рабочая память (позволяющая анализировать синтаксические единства, состоящие из нескольких слов), способность к построению сложных иерархий и т. д. Многие из этих “модулей” существовали задолго до человека, они развились в разное время в связи с разными адаптационными потребностями, так что неоантропу не пришлось строить свою коммуникативную систему “с чистого листа”. Грамматически оформленной речи, полагает Гивон, предшествовала речь, грамматически не оформленная, подчинявшаяся принципам протограмматики (см. гл. 1). Сейчас подобную речь можно наблюдать у детей, еще не вполне овладевших языком, у носителей пиджинов и у больных с нарушениями речи, но те же самые принципы отчасти работают и в развитой грамматике. Следовательно, в ходе эволюции языка они никуда не исчезли, просто к ним добавилось нечто новое. Основной причиной различий между коммуникативными системами обезьян и человека является, по мнению Гивона, разница условий, в которых происходит их общение. Современные человекообразные обезьяны живут стабильными родственными группами небольшого размера, сложность их социальной структуры очень сильно уступает сложности человеческого общества, хозяйственная специализация отсутствует. Все каждый день делают примерно одно и то же, поэтому их знания о мире и о том, что происходит в их собственной группировке, в значительной мере совпадают. В таких условиях нет необходимости в сложной коммуникативной системе, в частности, нет потребности в коммуникативных актах-сообщениях. Именно в силу этой причины у обезьян не возникает грамматики — при том, что у них, как показывают эксперименты, имеются понятия о предметах, признаках, действиях, последовательностях действий, о том, что одушевленный субъект может производить действие, а неодушевленный объект, как правило, нет, и т. д. Появление языка Гивон связывает с тем, что, когда сообщества гоминид выросли, разные представители одной и той же группы стали добывать разные типы пищи, подчас уходя для этого за многие километры. Это привело к разрушению информационной общности — у отдельных особей появились воспоминания и планы, которые не были известны другим членам группы. Увеличение темпов культурных изменений также усиливало информационное неравенство в группах гоминид (одни особи лучше знали про одни элементы культуры, другие — про другие). Соответственно, возник спрос на сообщения, которые можно понять не на основе общего знания и видимой ситуации, а исключительно на основе языковых данных — то есть сообщения, организованные при помощи грамматики. Главной функцией грамматики Гивон считает отражение того, чтo думает и знает другая особь (т. е. обеспечение компетентного сознания, “теории ума”). Грамматика, по его мнению, не возникла одномоментно, она развивалась постепенно, как у детей. И так же, как и в детской речи, вероятно, уточнение характеристик сообщаемой ситуации происходило поначалу в диалоге — такой тип общения позволяет вводить новые детали постепенно, без необходимости произносить по нескольку знаков за одну реплику (а собеседнику — понимать их все сразу). Гивон обращает внимание, что слова сами по себе не могут участвовать в коммуникации — чтобы быть элементом коммуникации, слово должно не просто что-то означать, оно должно что-то сообщать другому. Поэтому первыми единицами коммуникации были, видимо, однословные предложения, доступные ныне и полноценным носителям языка, и афатикам, и говорящим на пиджине, и маленьким детям. Начиналась коммуникация, по мнению Гивона, с указательных жестов и вокализаций, а значит, первыми словами были указательные местоимения (из которых впоследствии произошли личные местоимения и артикли). Далее, с развитием сообщений, выходящих за рамки “здесь и сейчас”, формируется хорошо закодированный словарь и, соответственно, фонологическая система. Изначально этот словарь, согласно гипотезе Гивона, состоял из существительных, глаголы появились позднее. Когда в речи стали использоваться предложения из многих слов, возникает синтаксическая иерархия: например, соединение глагола с его объектом — это уже синтаксическая составляющая, глагольная группа. Употребление слов в определенных конструкциях, комбинациях с другими словами, привело к появлению грамматических показателей — такой процесс хорошо засвидетельствован в самых разных ныне существующих и письменно зафиксированных древних языках и носит название грамматикализации 44. В ходе грамматикализации полнозначное слово, становясь элементом устойчивой конструкции, постепенно “стирается”, теряет свое ударение, морфологическую структуру и даже часть звукового состава (с нейрофизиологической точки зрения это объясняется правилом Хэбба: чем чаще тот или иной нейронный ансамбль активируется, тем меньшего стимула достаточно для его активации), и может в конце концов стать аффиксом. Для носителей русского языка один из самых близких примеров — “постфикс” — ся: в XI–XII вв. он был отдельным словом и должен был занимать позицию после первого полноударного слова в предложении (подобно современной русской частице ли), ср. например 45: Пути грамматикализации, те конструкции, из которых возникают знакомые нам показатели падежей, глагольных залогов и т. д., к настоящему времени достаточно хорошо изучены47. Поэтому мы можем легко представить себе, как из первых, самых простых фраз, соположений слов, подчиненных еще принципам протограмматики, формируются — в соответствии с установленными закономерностями — все привычные нам элементы грамматики, присущие настоящему человеческому языку. Соположение языковых единиц предшествует появлению (а затем грамматическому оформлению) синтаксических связей между ними. В частности, из соположения предложений развивается возможность рекурсивного вставления предложений друг в друга: “сруби то дерево” + “то дерево засохло” > “сруби то дерево, которое засохло”. Гивон отмечает, что в процессе глоттогенеза очень значительную роль играл эффект Болдуина — функциональные изменения предшествовали структурным. В качестве главной перспективы развития теории происхождения языка Гивон называет задачу объяснить причины возникновения информационного неравенства в группах гоминид, объяснить, почему нашим предкам стало жизненно необходимо знать то, что? знают другие, но еще не знают они сами 48. И действительно, сама по себе необходимость уходить от группы в поисках пищи и связанное с этим появление воспоминаний, не разделяемых сородичами, не приводят к возникновению не только языка, но и вообще сколь-нибудь развитой коммуникативной системы: так, разделение на небольшие подгруппы при поиске пищи характерно для шимпанзе, но еще больше “индивидуального опыта”, например, у медведей, которые ведут одиночно-территориальный образ жизни и общаются друг с другом крайне мало. Одну из самых необычных гипотез о происхождении языка выдвинул Т. Дикон 49. В его теории язык предстает чем-то вроде паразита, колонизирующего мозг. Конечно, язык — не какая-нибудь аскарида или трихинелла, он не является живым организмом. Но есть у них и общее: и паразит, и язык устроены системно, и тот, и другой передаются от одного “хозяина” к другому — без этого они просто не могут существовать. И то, что язык — даже один и тот же — немного различается у разных людей, оказывается похожим на то, как бывает у паразитов: разные паразиты одного вида (как и любые другие живые организмы) несколько отличаются друг от друга — примерно настолько же. В природе паразиты очень хорошо приспосабливаются к своему хозяину — так и язык, по гипотезе Дикона, изменяясь, приспосабливается к устройству человеческого мышления. Именно этим объясняется то, что язык устроен “дружелюбно к пользователю”: в нем воспроизводятся те черты, которые лучше адаптированы к свойствам “хозяина” — человеческого разума. Поскольку мышление у людей устроено более или менее одинаково, в самых разных языках обнаруживаются сходные черты — так называемые языковые универсалии. Объясняет гипотеза Дикона и тот известный факт, что язык лучше всего учить в детстве. Согласно ей, дело в том, что языки просто приспособились к выучиванию детьми: такой язык, который детям выучить легко, лучше передается из поколения в поколение и дольше живет. Времени с момента появления человеческого языка прошло уже достаточно много, так что теперь остались только такие языки, которые дети учат с легкостью. В природе не только паразит приспосабливается к своему хозяину, эволюционирует — под влиянием паразита — и сам организм-хозяин. Так и мозг, по мнению Дикона, развивается под влиянием языка. А язык снова изменяется, приспосабливаясь к развившемуся мозгу. И мозг, соответственно, эволюционирует дальше. Именно такая положительная обратная связь и обусловила столь впечатляющее развитие — и человеческого языка, и человеческого мозга. Эта же идея развивается в статье психологов Мортена Кристиансена и Ника Чейтера50: чтобы лучше воспроизводить себя, языки должны быть легко выучиваемыми (в том числе при ограниченном количестве исходных данных), легко распознаваемы и легко передаваемы. Именно поэтому в языках не может быть, например, зависимых слов, слишком сильно удаленных от своего “хозяина”, не может быть правил, которые бы отсылали, например, к пятому слову от начала предложения или к шестому слогу от конца слова. Вероятно, именно по этой причине при исторических изменениях языков в них не накапливается хаотичность: например, вариантов произнесения гласного а очень-очень много, но при передаче следующему поколению фонема все равно остается одна (или закрепляется несколько позиционных вариантов), ситуация, когда гласных, похожих на а, стало бы, скажем, 100, не возникает. Кристиансен и Чейтер специально отмечают, что процесс культурной передачи и процесс конструирования языка при овладении им не следует противопоставлять — это, в сущности, одно и то же. Но почему же, если язык должен быть прост, он в итоге оказался так сложен? Потому, пишут Кристиансен и Чейтер, что легкость передачи — не единственное свойство, необходимое для полноценного функционирования языка, он должен удовлетворять множеству различных условий, например, обладать достаточно богатыми выразительными возможностями. Недавно такая возможность — эволюция языка как приспособление к устройству мозга — была показана на компьютерной модели51. Многие авторы понимают, что язык — это явление прежде всего социальное52, он возникает не у одиночно живущих особей, а у общественных животных — приматов. Но если для одних он предстает как средство самозащиты у индивидов, вынужденных жить в коллективе, то другие рассматривают его как средство групповых взаимодействий, организующее жизнь социума в целом или, по крайней мере, пар общающихся особей. Например, психолингвист Ник Энфилд в своем отклике на статью М. Кристиансена и Н. Чейтера53 отмечает, что для понимания языка необходимо учитывать взаимодействия между людьми — ведь язык может распространяться только через общение, представляющее собой не передачу всей системы сразу и целиком, а обмен отдельными высказываниями. Разговор, как и другие социальные взаимодействия людей, представляет собой цепочку попеременных действий каждого участника, так что действие одного влечет ответное действие другого. Такая система обращения с языком дает возможность сразу видеть сбои в формулировках или в понимании и сразу их исправлять, что позволяет языку при любых изменениях сохранять хорошую пригодность для коммуникации. Наиболее известной из гипотез, связывающих происхождение языка с его ролью в социуме, является выдвинутая психологом Робином Данбаром54 “гипотеза груминга”. Данбар заметил, что размеры коры головного мозга коррелируют с размерами групп, характерными для соответствующего вида; в то же время чем больше число особей в группе, тем больше времени им приходится затрачивать на специальные действия, направленные на снятие социальной напряженности, поддержание внутригрупповой сплоченности, установление партнерских отношений (у приматов это прежде всего груминг, см. фото 26 на вклейке). Эволюция человека связана с ростом мозга — если мозг австралопитека составлял около 450 см3, то объем мозга Homo habilis уже был в среднем 650 см3, мозг архантропа имел объем около 1000 см3, для неоантропа же среднее значение — около 1400 см3 (см. гл. 3). Если выведенная Данбаром закономерность верна, то, видимо, размер групп, характерный для гоминид, в ходе эволюции увеличивался, а значит, увеличивалось и время, которое необходимо было затрачивать на груминг. Но время, затрачиваемое на груминг, не может расти беспредельно, поскольку не может быть бесконечно уменьшено время, необходимое для другой активности. Соответственно, должно было появиться средство, пригодное для гармонизации социальных отношений, но требующее меньших временных затрат. Таким средством, по мнению Данбара, и стал язык. Он же стал одним из средств идентификации группы, и именно этим объясняется наблюдаемое разнообразие языков. Однако такая гипотеза бессильна объяснить наличие в языке, к примеру, фонологии или сложного синтаксиса (да и многого другого 56).
Рис. 6.1. Предполагаемое время, которое должны были затрачивать на груминг различные представители клады человека. Если бы у человека не было языка, то в группе, состоящей из 150 индивидов, ему потребовалось бы тратить на груминг 40 % времени дневной активности (верхняя горизонтальная линия). Из ныне существующих обезьян наибольшее время тратят на груминг гелады — 20 % времени дневной активности (нижняя горизонтальная линия) 55 . Действительно, средство для снятия социальной напряженности при помощи голоса могло бы быть и не таким затратным, как членораздельная речь, — для этого вполне хватило бы нечленораздельной речи (с богатым варьированием интонаций) или пения 57, да и возможность составлять синтаксические конструкции с согласованием, падежным маркированием, структурой составляющих и т. д. для гармонизации социальных отношений едва ли особенно необходима.
Рис. 6.2. Волчий вой — прекрасное средство для обеспечения сплоченности группы, несмотря на отсутствие в нем падежей, словообразования, иерархически устроенного синтаксиса и т. п. Тем самым для объяснения того, как возникли наиболее существенные характеристики языка, гипотеза Данбара как минимум недостаточна. Кроме того, размер группы определяется не только объемом мозга: на него накладывают ограничения и тип питания, и пресс со стороны хищников, и конкуренция с другими группами, — это можно наблюдать и на обезьянах, и на людях, живущих охотой и собирательством58. Скорее всего — исходя из существовавших в те времена в Африке экологических условий, — предки человека жили группами в пределах от 35 до 75 особей59 (по другим оценкам — от 20 до 50), а такого размера группы встречаются и у современных обезьян, которые могут поддерживать отношения в социуме, не используя языка. Вообще, по данным археологов, группы размером более сотни человек появились у человека сравнительно недавно — еще 40 тысяч лет назад все люди жили родовыми общинами, насчитывавшими от 5 до 80 человек, все или почти все из которых были связаны между собой узами крови или брака60. Иное дело, что язык (в отличие от груминга) дает возможность развивать не только групповую, но и межгрупповую кооперацию, так что человек, оказавшийся на территории другой общины, может во многих случаях рассчитывать на теплый прием, разные общины могут вместе отмечать ритуальные праздники, обмениваться невестами (что очень полезно, когда внешние условия нестабильны и, соответственно, лучшим половым партнером является партнер генетически далекий, см. гл. 5) и т. п.61. Японский приматолог Нобуо Масатака62 полагает, что языковой способности предшествовала способность музыкальная. Эгоистические индивиды не могли создать язык, следовательно, прежде всего им надо было объединиться, почувствовать себя единым коллективом — настолько единым, чтобы обмен информацией имел смысл. В языке, конечно, есть специальные (их называют “фатические”) средства для поддержания контакта — это слова “здравствуй”, “пожалуйста”, фразы типа “как дела?” и т. п. Единственная “информация”, которую можно из них извлечь, это примерно “я чувствую к тебе достаточную симпатию, чтобы стараться не вызывать твоего раздражения” (различие конкретных выражений обусловлено разнообразием ситуаций, где их полагается употреблять). Но все же функцию сплочения коллектива язык выполняет явно не оптимально — недомолвки, недопонимания, наконец, просто грубые выражения способствуют скорее обратному. Масатака обращает внимание на начальные стадии человеческого общения — на общение матери с ребенком. Когда ребенок начинает гулить, у самых разных народов можно наблюдать, как мать обращается к ребенку с какими-нибудь совершенно “неинформативными” словами типа агу, а ребенок отвечает ей нежным гулением. Такие контакты, когда обмен вокализациями не передает никакой информации, но создает эмоциональный контакт, теплые взаимные чувства, отмечен и у обезьян — в частности, у японских макак (правда, у них подобным образом общаются между собой взрослые особи). Далее, когда ребенок начинает говорить, мать часто, обращаясь к нему, говорит высоким голосом, подчеркивая ритм своих фраз. Высокий голос привлекает внимание ребенка, ритм провоцирует эмоциональный отклик — в результате ребенок лучше понимает мать, а впоследствии лучше овладевает языком. По мнению Масатаки, эти же две стадии проходили и гоминиды на своем пути к языку: стадия “гуления” создала слоги, используемые для установления эмоционального контакта, на стадии “лепета” возникли многосложные звуки, и контакт стал более богатым и более комплексным. Третьей стадией, по этой гипотезе, могло быть коллективное пение, подобное дуэтам, которые сегодня можно наблюдать у гиббонов. Такая коммуникация развивала не только чувство сплоченности, но и слух, и навыки звукового подражания — со временем это легло в основу не только языка, но и музыкальных способностей человека. На этой стадии эмоциональный контакт распространился на всю группу, на смену эгоизму пришло ощущение принадлежности к коллективу, что и подготовило почву для развития языка. Баланс между эгоизмом и коллективизмом, безусловно, важен для тех, кто живет в коллективе. Но едва ли необходимость в нем возникла лишь у гоминид — альтруистические проявления зафиксированы у самых разных видов животных, ведущих групповой образ жизни. И само существование коммуникативной системы во многом является жертвой, которую отдельные особи приносят группе в целом (как мы видели на примере Фигана). Так что если совместное пение как средство поддержания чувства групповой сплоченности и развивалось у гоминид, то, вероятно, не в качестве предшественника языка, а параллельно с ним. Если бы музыкальная способность предшествовала языковой, то, наверное, среди нас не было бы такого количества людей, которым “медведь на ухо наступил”, а языки, скорее всего, в большей степени полагались бы на тоновые различия. В российской науке последних лет одна из немногих оригинальных гипотез принадлежит специалисту в области семиотики Александру Николаевичу Барулину63. По его мнению, человеческий язык — результат совместного развития человеческого организма, социальной структуры общества и тех знаковых систем, которые их обслуживают. Один из важнейших промежуточных пунктов на этом пути — появление у Homo habilis способности и стремления приспосабливать природную среду к своим нуждам и как следствие этого — способности к “обратному моделированию”: модель, первоначально построенная в сознании, воплощается затем в мире и изменяет его. Чтобы эта способность не угасла, необходимо уметь передавать построенные в сознании модели по наследству, а для этого нужна не просто коммуникативная система — необходимо объединение коммуникации и мышления в единую речемыслительную систему. Согласно гипотезе Барулина, такое объединение возникло в результате мутации, которая привела к появлению кроманьонца. Но эта мутация не была единственной: кроме объединения мышления с речью, должны были появиться способности, во-первых, к звукоподражанию, а во-вторых, к необыкновенно тонкому регулированию дыхания, без которого невозможна речь. Появление способности к звукоподражанию сделало систему звуковых сигналов открытой — в нее стало можно добавлять новые сигналы, подражая новым звукам. Но в результате старая сигнальная система оказалась дестабилизирована. Впоследствии, когда сигналы, возникшие из звукоподражаний, стали передаваться из поколения в поколение путем обучения, система стала саморегулироваться: установились различительные признаки фонем, форма и смысл языковых знаков стали строиться комбинаторно — и получился настоящий человеческий язык. В этом языке сложилась система уровней: из фонем строятся морфемы, из морфем — грамматические слова, из слов — словосочетания, из словосочетаний — предложения, а из предложений — целые тексты. Это смысловые уровни. Но и звуковая сторона языка тоже образует систему уровней — в данном случае это уровни метрические: из фонем строятся слоги, из слогов — фонетические слова, из фонетических слов — такты (такт — это группа фонетических слов между двумя соседними паузами, приблизительно то же самое, что фонетическая синтагма), из тактов — периоды. При этом морфемы не всегда совпадают со слогами, грамматические слова — с фонетическими (см. гл. 1) и т. д. Как отмечает Барулин, у детей “сплавление” метрического и смыслового рядов единиц происходит на ранних стадиях освоения языка, когда ребенок начинает произносить так называемые двуслоги (Ма’-ша’, шу’-ба’), первоначально — с паузой между слогами и с ударением на каждом из них. Барулин обратил внимание на любопытный факт: в разных языках совпадение звуковой и смысловой стороны начинается с разных уровней. Причем уровни, на которых это совпадение происходит, различаются в разных частях Земли. Например, в Юго-Восточной Азии совпадение начинается с уровня слогов и морфем, а на северо-востоке Сибири и в Северной Америке — только с уровня предложений. Барулин считает, что, если бы переход от дочеловеческого языка к человеческому происходил в одном месте, техника соединения звуковых и смысловых уровней была бы одинакова во всех языках, а имеющиеся различия свидетельствуют о том, что человеческий язык возникал несколько раз — в разных местах независимо. Так что, может быть, свести все языки мира к одному общему предку не удастся. А впрочем, может быть, и удастся: ведь нередко, когда языки контактируют, бывает так, что народ переходит на другой язык, но говорит на этом новом языке немного “на старый лад”. Если так было с первыми языками человечества, то не исключено, что один из языков вытеснил все остальные (и его потомками являются все ныне существующие языки), а от всех прочих остались лишь следы — вроде тех, которые заметил Барулин. Кроме того, Барулин отмечает, что в человеческом языке знаки стали принципиально другими: стало можно брать знак целиком и делать его формой другого знака. Например, в русском языке есть слово красный, обозначающее цвет. В ХХ в. ему был придан новый, политический смысл (именно всему слову в целом, с его формой и смыслом — обозначаемым им цветом). Таким образом появляются дополнительные смыслы, возникает возможность искусства, сложных символов. Далеко не все ученые стремятся построить полную модель происхождения языка. Многие занимаются решением отдельных частных вопросов. Но это не менее ценно, поскольку частный вопрос легче проработать детально и убедиться, что предлагаемая модель не содержит противоречий. Так, например, психолингвисты Барбара Дэвис и Питер Мак-Нилидж64, специалисты по овладению фонетикой в детстве, демонстрируют, как мог развиться волевой контроль над звуком. Из доступных обезьянам вокализаций, управляемых подкорковыми структурами, невозможно получить большое количество разных сигналов-слов. Чтобы иметь много слов и мочь отличать их одно от другого, необходимо, чтобы разные элементы речевого аппарата — нижняя челюсть, язык, губы и т. д. — могли двигаться независимо друг от друга. В начале эволюции языка, пишут Дэвис и Мак-Нилидж, нашим предкам был доступен лишь элементарный цикл движений нижней челюсти: открывание и закрывание рта, такое же, как при жевании, сосании или лизании. На самом деле, это не вполне верно: Дж. Гудолл замечает, что для поедания многих видов плодов, семян и сердцевины растений обезьяны должны уметь довольно тонко управлять своим ротовым аппаратом65. И даже первые шаги в освоении коммуникации при помощи рта тоже, видимо, были пройдены еще обезьянами: приматологи знают, что чмоканье губами — это один из коммуникативных жестов. Но соединить управление разными частями рта и коммуникацию удалось только людям. Как это произошло, пытаются показать в своих работах Дэвис и Мак-Нилидж. Их гипотеза опирается на уже упоминавшийся “основной биогенетический закон” Э. Геккеля: развитие одной особи в целом ряде отношений повторяет развитие всего вида. В качестве модели того, как предки людей овладевали волевым контролем над вокализациями, можно рассматривать детский лепет: именно на этой стадии малыш учится управлять звуком. Сначала младенец произносит слогоподобные последовательности: когда челюсти переходят из сомкнутого состояния в разомкнутое, “включается” голос. В дальнейшем движения отдельных органов артикуляции становятся все более и более независимыми друг от друга. Чтобы успешно овладеть звуковой стороной языка, важен слуховой контроль (см. гл. 1). У лепета есть целый ряд нетривиальных свойств: например, чаще всего в нем встречаются слоги типа “согласный + гласный” (заметим, что этот же тип является единственным, который допустим, вероятно, во всех языках мира). Набор возможных согласных и гласных у младенца крайне ограничен — если, конечно, иметь в виду те звуки, которые он может повторять, и не учитывать тех, которые один раз случайно промелькнули в его лепете. Сочетания согласного с гласным в пределах одного слога подчиняются принципу инерции: если согласный зубной (как, например, d), то гласный обычно бывает передний (типа i или e), если согласный задненёбный (типа g), то гласный скорее всего окажется задним (и огубленным, как, например, u), и эти устойчивые связи не зависят от того, каким языком овладевает младенец. Если лепечущий малыш произносит два слога подряд, то обычно эти слоги одинаковы, а если нет, то первый слог начинается с губного согласного (b, p, m и т. п. — это связано с тем, что губные согласные проще для произнесения), а второй — с негубного. К моменту овладения языком эти тенденции разрушаются: в реальных “взрослых” языках слоги чаще бывают подчинены не принципу инерции, а, наоборот, принципу контраста, поскольку, чем меньше различие между элементами сигнала, тем больше создается трудностей для его распознавания — нелегко понять, один звук был произнесен или два. Слоги, где гласные и согласные очень похожи друг на друга (как, например, wu или yi), встречаются в языках мира нечасто. Повторы двух одинаковых слогов в непроизводных словах “взрослых” языков относительно редки, среди них преобладают звукоподражания; если же слоги не повторяются, то согласные в них могут быть любыми. Все эти факты приводят Дэвис и Мак-Нилиджа к выводу, что в начале развития звучащей речи облик звуковых сигналов определяли в первую очередь весьма ограниченные возможности произношения звуков; впоследствии же все более повышалась роль различий, необходимых для распознавания большого количества разных слов. Специалист по теории грамматики Джоан Байби ставит своей целью продемонстрировать, что для возникновения сложного синтаксиса не нужны генетические мутации, которые вызвали бы появление в человеческом мозгу синтаксических деревьев. Основой структуры составляющих является, по ее мнению, последовательность слов в высказываниях — об этом говорит даже само название ее статьи — Sequentiality as the basis of constituent structure(“Последовательность как основа структуры составляющих”)66. Согласно гипотезе Байби, семантика и, до некоторой степени, прагматика определяют, какие элементы в высказывании окажутся рядом друг с другом, но именно частая совместная встречаемость в речи — это тот “клей”, который связывает элементы составляющих вместе. Владение языком Байби сопоставляет с навыками вождения автомобиля: в обоих случаях единицы более высокого уровня образуются комбинированием единиц более низкого уровня. Например, словосочетание мой щенок или действие “повернуть направо” являются комбинациями более простых единиц — в первом случае это мой и щенок, во втором — соответствующее движение руля и включение светового сигнала поворота. Чем более опытен водитель или носитель языка, тем в большей степени он оперирует единицами более высокого уровня (чанками), которые складываются из единиц более низкого уровня как бы автоматически (см. гл. 2). То есть чем чаще повторяется действие (практическое или языковое), тем оно становится более беглым; цепочка таких действий может слиться в единый комплекс, образуя чанк. О том, что такая единица воспроизводится и воспринимается как единое целое, а ее внутренняя структура может утрачиваться, свидетельствуют, например, случаи слияния артиклей с определяемыми существительными, превращение послелогов {45} в падежные окончания и т. п. Таким образом, знание грамматики — это прежде всего навык, по большей части подсознательный. И в этом смысле знание грамматики противостоит знанию лексики, которое представляет собой сознательное обладание информацией. Выучиваемые последовательности слов (так же, как и последовательности морфем) образуют сети, что дает возможность комбинировать отдельные элементы друг с другом. Например, имея в памяти сочетания моя мама, моя машина, твоя мама, своя машина, можно построить своя мама или твоя машина (хотя все равно хорошее владение языком в сильнейшей степени подразумевает знание и употребление таких комбинаций слов, которые в этом языке закреплены традицией — так, в одном языке мы можем попасть в затруднительное положение, а в другом в такой же ситуации — “в тесный угол”: ср. англ. in a tight corner).
Рис. 6.3 Последовательности слов образуют сети. Зная некоторые неэлементарные названия (например, те, которые на этом рисунке подчеркнуты), можно из их компонентов строить другие (например, те, которые на этом рисунке показаны курсивом) 67 . На основе таких сетей строятся обобщения более высокого порядка, что и образует грамматику. Таким образом, иерархии структур составляющих выводимы из того факта, что одни и те же элементы часто следуют в тексте друг за другом: чем чаще какие-то из них встречаются вместе, тем теснее они связаны в структуре составляющих. Свою гипотезу Байби подтверждает результатами многочисленных наблюдений и экспериментов, показывающих, что явления фонетической редукции на стыках слов, распределение пауз и т. п. в сильной степени обусловлены частотой, с которой соответствующие слова в предложениях стоят рядом. Иногда фонетически сливаться могут слова, которые относятся к очень далеким друг от друга (с точки зрения структуры синтаксического дерева) составляющим, но при этом часто оказываются в непосредственном контакте в реальных высказываниях, ср., например, такие комплексы, как англ. I’m, I’ll, he’d. Некоторую сложность для данной теории представляют разорванные составляющие, в которых элементы, связанные синтаксическим соотношением, не располагаются рядом друг с другом. Но, по мнению Байби, это обусловлено возможностью человека приостанавливать выполнение поведенческих программ и потом — после некоторого перерыва — возобновлять его. При этом составляющие, вставленные внутрь других составляющих, не должны быть слишком длинными — чем меньше необходимо сделать в промежутке, тем легче возобновить прерванное действие. Из всего этого Байби делает вывод, что в языковой способности человека нет никаких специальных “составляющих”, образующих синтаксические деревья. Просто единицы языка (слова и морфемы) в результате частого повторения комбинируются в кластеры. Именно эти кластеры и демонстрируют поведение, свойственное составляющим, — они могут употребляться отдельно (в ответе на вопрос), заменяться на местоимения и т. п., а также занимать определенное место в предложении. “Составляющие” получаются, когда члены такого комплекса образуют тесное смысловое единство: так, комплекс I’ll “я буду” не является составляющей, поскольку вспомогательный глагол будущего времени теснее связан по смыслу с основным глаголом, чем с субъектом действия, а, например, комплекс голубая чашка является. Таким образом, для становления человеческого языка были необходимы: (1) тонкий моторный контроль, способность хранить в памяти и комбинировать достаточно длинные последовательности действий, (2) способность соединять понятия в коммуникативно связанные последовательности, базирующаяся на (3) способности к категоризации, применяемой как к формам знаков, так и к их смыслам, и (4) способности хранить и категоризировать многочисленные качества имеющихся последовательностей. Соответственно, глоттогенез представляет собой не появление каких-либо новых умений и навыков, а лишь развитие уже имеющихся. Это развитие, по мнению Байби, должно было происходить постепенно. Никакой специальной точки перехода от до-языка к языку не было, был континуум усложнения возможных комбинаций: сначала высказывания содержали по одному слову, потом — по два и так далее. Морфолог Эндрю Карстейрс-Маккарти68 задается вопросом о происхождении морфологии. Согласно его гипотезе, источник морфологии — это те изменения, которым подвергаются слова, оказываясь в потоке речи по соседству с другими словами. Это значит, что морфология могла начать развиваться лишь после того, как люди научились производить по нескольку знаков за одну “реплику”. Знаки, подвергшиеся разным изменениям (это могли быть не только слова, но и жесты — если первоначальный язык был жестовым), осознаются как “то же, но другое”, особенно если условия чередования вариантов перестают быть автоматическими. Эта возможность — осознавать разные знаки как “то же, но другое” — приводит к тому, что люди начинают обращать внимание на все различия между вариантами знаков, и эти различия закрепляются в языке как значимые. Джил Морфорд69, специалист по жестовым языкам глухих, выдвигает гипотезу постепенности формирования грамматики. В сообществе глухих, выучивших жестовый язык во взрослом возрасте, настоящей грамматики с обязательными правилами нет (что похоже на ситуацию в пиджинах), но дети, как и первые носители креольского языка, создают элементы грамматики. У следующих поколений глухих, выучивающих язык в детстве, грамматика становится еще стройнее. Подобным образом, видимо, было устроено и становление человеческого языка: разные элементы грамматики появлялись постепенно; тот, кто вводил в обиход ту или иную инновацию, не мог в полной мере воспользоваться ее плодами — их пожинали те, кто выучивал ее в детстве и тем самым доводил до автоматизма (и, соответственно, грамматичности). Количество таких наблюдений растет. Кроме того, исследователи пытаются обнаружить такие имеющиеся у приматов когнитивные, нейрологические, социальные и другие характеристики, развитие которых дает почву для появления человеческого языка70. Подобные исследования очень важны, поскольку они позволяют поставить обсуждение проблемы происхождения языка на прочный научный фундамент. Но конечно же не все выдвигаемые идеи выдерживают проверку фактами. Рассмотрим в качестве примера гипотезу Э. Карстейрса-Маккарти71 о “заимствовании” структуры слога в качестве модели для синтаксиса72. Карстейрс-Маккарти ставит вопрос, откуда взялось противопоставление именной группы и целого предложения. Почему именные группы не одинаковы: одна из них — подлежащее — оказывается “главнее” прочих? По мнению Карстейрса-Маккарти, все это в конечном итоге следствие развития речевого аппарата (а само развитие речевого аппарата является побочным эффектом перехода наших предков к передвижению на двух ногах): иерархическая структура предложения и все связанные с этим противопоставления были заимствованы из структуры важнейшей фонологической единицы — слога (см. гл. 1) {46} : Внутри слога существует три вида асимметрии: между ядром и периферией (последняя включает инициаль и коду); между инициалью (как более привилегированной составляющей слога) и кодой; между слогом в целом и его составляющими.
Рис. 6.4. Инициаль, рифма, ядро и кода — так часто называют части слога. Особенно это принято в традиции изучения китайского и подобных ему “односложных” языков.
Рис. 6.5. Между схемой предложения и схемой слога можно усмотреть некоторый параллелизм. Такая структура слога находит непосредственные параллели в тех синтаксических структурах, которые принято вводить в наиболее влиятельной за рубежом синтаксической теории — порождающей грамматике Н. Хомского. Как пишет Карстейрс-Маккарти, любой текст можно разбить на предложения так, что в каждом предложении обязательно будет ядро — сказуемое (предикат), и слова, которые могут быть предикатами, существенно отличаются от слов, заполняющих слог периферийные позиции (именных групп), а эти последние одинаковы по своей природе, но одна из них (подлежащее) является привилегированной. Важнейшим свидетельством в пользу гипотезы о заимствовании структуры слога в качестве модели для синтаксиса служит для Карстейрса-Маккарти тот факт, что те зоны коры головного мозга, которые ответственны за грамматическую организацию высказываний, соседствуют с участками, которые контролируют артикуляторный аппарат. Если зона Брока поражена, то люди — носители английского языка — могут оценить как правильные или неправильные некоторые предложения, но не могут заметить отклонений от правил, если эти правила связаны с предикатно-аргументной структурой и понятием подлежащего. Из этого Карстейрс-Маккарти делает вывод, что зона Брока регулирует как раз те аспекты синтаксиса, которые базируются на “слоговой модели” и являются наиболее древними. Но при более внимательном рассмотрении выводы Карстейрса-Маккарти оказываются не вполне обоснованными: если бы зона Брока действительно отвечала за те аспекты синтаксиса, которые якобы непосредственно выводятся из структуры слога, то при поражении этой зоны и соседних участков мозга следовало бы ожидать не только затруднений, связанных с синтаксисом, но и нарушения слоговой структуры, чего тем не менее обычно не происходит. Да и вообще, афазия бывает у носителей самых разных языков, в том числе и таких, в которых предложение устроено совсем не так, как в английском, — есть языки со свободным порядком слов (например, русский), языки синтаксически и семантически эргативные, языки топикальные и т. д. И для того, чтобы материалы афазии могли служить доказательством гипотезы, касающейся человеческого языка в целом, необходимо рассмотреть, что происходит при афазии в самых разных языках. А те данные, которые приводит Карстейрс-Маккарти, свидетельствуют скорее о том, что зона Брока отвечает за исполнение последовательностей речевых действий. Именно поэтому при ее поражении человек утрачивает способность и производить длинные цепочки слов, и анализировать их строение. Да и сама структура предложения, происхождение которой пытается объяснить Карстейрс-Маккарти, далеко не универсальна. Многочисленные исследования74 показывают, что такие категории, как “существительное” и “глагол”, “подлежащее” и “дополнение” и т. п., имеют вполне четко выделимое универсальное “ядро” и значительно более размытую и подверженную типологическому варьированию “периферию”. Существительные (и формируемые на их основе именные группы) прототипически обозначают дискретные, стабильные во времени объекты, в то время как глаголы (и тем самым предложения) прототипически обозначают положения вещей, подверженные изменению во времени. Привилегированной именной группой может быть не только подлежащее — во многих языках мира разные факторы выделяют в качестве привилегированных разные именные группы75. Конституирующим ядром предложения является не “обозначение действия”, как полагает Карстейрс-Маккарти, а та составляющая, которая содержит информацию о времени, модальности и т. п.76. Чаще всего это действительно глагол, но в некоторых языках такая информация может содержаться и в именной группе, например, в турецком предложении bu kalemdi “это было перо” или в ненецком тикы манась “это был я” показатели прошедшего времени — di и — ась присоединены не к глаголу, а к существительному (kalem “перо”) и местоимению (ман “я”). И даже гипотеза об изоморфизме структуры слога и структуры предложения верна лишь отчасти: в слоге элементы переставить нельзя, а в предложении — во многих языках — можно. Более того, как показывают исследования, жесткий порядок слов исторически возникает из свободного77. На современном этапе невозможно себе представить исследование происхождения языка без участия компьютера — этот процесс моделируется при помощи так называемых “нейронных сетей”. Такая сеть78 представляет собой несколько слоев связанных между собой отдельных элементов (“нейронов”). У каждого “нейрона” имеется множество связей с другими нейронами — входных (“дендритов”) и выходных (“аксонов”); все связи обладают весовыми коэффициентами. Сигналы со входов в “нейроне” суммируются и после определенного преобразования передаются на выходы. “Нейронная сеть” может “обучаться” — менять весовые коэффициенты связей в зависимости от получаемого ею “опыта”. Ценность подобных сетей заключается в возможности продемонстрировать, что при такой-то изначальной ситуации и таких-то правилах работы системы с неизбежностью получается такой-то результат, — соответственно, для его достижения нужны лишь определенные стартовые условия. В компьютерных исследованиях глоттогенеза “нейронная сеть” предстает как популяция общающихся между собой “индивидов”. Такие “сети” моделируют самые разные аспекты языковой эволюции. Прежде всего, компьютерные модели демонстрируют возникновение двойного членения79: если бы каждый знак состоял из одного звука, таких знаков не могло бы быть много (реально — не более полутора-двух сотен), поскольку человек не в состоянии воспринимать слишком тонкие различия (и чем более тонкие различия необходимо делать, тем более трудоемким становится процесс порождения и распознавания звуков). Далее, если бы каждой ситуации соответствовало свое отдельное слово, слов — вследствие ограниченности памяти — было бы мало. Следовательно, для развития языка необходимо, чтобы слова состояли из нескольких звуков и обозначали не всю ситуацию целиком, а лишь какую-то ее часть. Показано и распространение знаков по популяции общающихся. В работе Натальи Леонидовны Комаровой и Мартина Новака “индивиды” (“нейроны”) вначале сами “придумывали” названия для объектов (случайным образом сопоставляя ту или иную форму с тем или иным смыслом), а потом обменивались сообщениями о них. В случае коммуникативной удачи “рейтинг” слова повышался, в случае неудачи — понижался; для следующей коммуникации выбиралось слово с наиболее высоким рейтингом. Таким образом Комарова и Новак показывают, что, если общающиеся между собой члены одной популяции первоначально используют разные знаковые системы, но при этом имеют одинаковый генетически унаследованный механизм научения, эти системы неизбежно сливаются в одну80. Другой принцип организации того же процесса предлагает лингвист-компьютерщик Джеймс Херфорд: в его модели “индивид”, воспринимая разные “слова” (пары “звучание — значение”), запоминает их все, но употребляет в дальнейшем только те, которые встречались ему чаще всего81. Действительно, проще и эффективнее не придумывать знаки самому на основе опыта, накопленного методом проб и ошибок, а воспользоваться теми, что уже придумал кто-то другой: каждый знак представляет собой обобщение знаний о том, что с данным объектом надо обращаться так же, как с другими объектами того же класса, и известность знака дает возможность легко включать в соответствующий класс новые объекты, не задумываясь, какие именно признаки для этого релевантны. Путем самоорганизации может сложиться и фонологическая система82, и композициональность (возможность вывести значение сложного целого из значения его частей). По одной из гипотез, композициональность возникает путем аналитического расчленения первоначально единых сигналов со сложным значением83. Из случайных, индивидуально выдуманных способов сочетания слов формируется система порядка слов, которая устойчиво воспроизводится в популяции, при этом бинарные правила обобщаются и выучиваются легче, чем другие, — и это обусловливает возникновение грамматики составляющих с последовательным односторонним ветвлением84. Судя по данным компьютерного моделирования, сложный синтаксис вполне мог появиться на базе простых исходных предпосылок, из первоначально неструктурированной коммуникативной системы85. Смоделировано даже возникновение нерегулярностей в языке86. “Нейронные сети” демонстрируют и то, что критический период для усвоения языка должен быть в раннем детстве87. Мозговые структуры чрезвычайно энергоемки, поэтому те из них, в которых нет жизненной необходимости, лучше разобрать или перепрофилировать. Если посмотреть на овладение языком с этой точки зрения, становится понятным, что, поскольку человек овладевает языком — в норме (характерной для первобытных людей) — один раз, то и нужда в “обучающем устройстве” имеется только в один период жизни. И период этот лучше всего расположить максимально близко к рождению, с тем чтобы человек как можно бoльшую часть жизни мог пользоваться преимуществами коммуникативной системы. Впрочем, расположение периодов обучения в раннем детстве прослеживается у стольких видов, что странно было бы предполагать для человека что-то иное. Компьютерные модели показывают, что многие характерные черты языка могут сформироваться, не будучи врожденными, просто в результате общения и передачи коммуникативной системы следующим поколениям. Более того, развитие языка и анатомо-физиологические изменения взаимообусловливают друг друга88. При этом возникновение языка не обязательно должно было быть связано с адаптивными преимуществами для говорящих — например, в модели С. Кирби синтаксически организованный язык с различением существительных и глаголов, со значимым порядком слов развивается из простого исходного набора лексических единиц без применения естественного отбора к общающимся индивидам, т. е. без каких бы то ни было биологических изменений89. Однако результаты компьютерного моделирования не следует преувеличивать: они сильно зависят от исходных установок исследователя. Так, например, модель Теда Бриско90 предполагает генетическую ассимиляцию грамматической информации, чего, как уже отмечалось, в реальности нет (см. гл. 5). Поэтому для оценки качества модели необходимо анализировать не только примененный в ней математический аппарат, но и адекватность заложенных в нее исходных предпосылок91. Сама по себе компьютерная (или математическая) модель не может служить решающим аргументом. Палеонтолог Кирилл Юрьевич Еськов приводит в качестве примера такой курьезный случай. До открытия изотопных методов абсолютного датирования геологических слоев многие ученые полагали, что валуны (которые на самом деле оставил ледник) принесены описанным в Библии Всемирным потопом. “Гидродинамические расчеты, выполненные математиками Кембриджского университета, дали точные характеристики глубин и скоростей течения водных масс потопа”92. “История эта, — пишет Еськов, — весьма назидательна в том смысле, что факт наличия математической модели… не должен гипнотизировать естествоиспытателя; математика — всего лишь инструмент (как та астролябия Остапа Бендера, которая “сама меряет… было бы что мерять”), который сам по себе истинности не гарантирует”93. Работ, так или иначе затрагивающих проблему происхождения языка, чрезвычайно много, поэтому в этой небольшой книге я не могу останавливаться на всех гипотезах подробно. Большинство высказанных гипотез в той или иной мере справедливы: действительно, жесты в роли носителя преднамеренной коммуникативной нагрузки предшествовали звукам, звукоподражания — знакам-символам, возникновению языка способствовал переход к передвижению на двух ногах, а также смена лесов саваннами, развитие коммуникативной системы было неразрывно связано с социальностью, а также с объединением речи и мышления и в итоге привело к формированию “врожденной языковой способности”. Но в то же время в каждой из них имеются и некоторые изъяны — одни не учитывают времени появления человека современного вида, другие — работы механизмов наследования, третьи — данных приматологии… Можно ли выдвинуть гипотезу, лишенную этих недостатков? Давайте попробуем. Если судить по современным шимпанзе — а наши общие предки едва ли сильно отличались от них по этим показателям, — то можно предположить, что приматы, оказавшиеся перед лицом новой возможности (еще не превратившейся поначалу в необходимость) — полуоткрытых и открытых ландшафтов, — были всеядными групповыми животными с достаточно развитой наблюдательностью и навыками делать выводы из своих наблюдений. Они умели перенимать поведенческие модели, были склонны добиваться своих целей не при помощи прямых физических воздействий (хотя ими тоже не брезговали), а с помощью коммуникативных сигналов — как намеренных, так и невольных. Способность к интерпретации поведения сородичей позволяла им создавать коммуникативные сигналы ad hoc. Умение понимать причинно-следственные связи развито у людей неизмеримо сильнее, чем у обезьян, — значит, его развитие занимало важное место в эволюции человека. Это подтверждается и увеличением в гоминидной линии лобных долей мозга. Как уже говорилось, понимание причинно-следственных связей — это едва ли не главная специализация человека в природе94, и язык представляет собой одну из составляющих “адаптации к когнитивной нише” (по терминологии Пинкера). Действительно, человек склонен из всего делать выводы, для всего искать причины, везде усматривать закономерности и внутреннюю логику (см. гл. 2). Солнце, зашедшее в тучу, приснившаяся лошадь, цвет подаренной розы, черная кошка, перебежавшая через дорогу, и даже черточки на асфальте — все это может явиться поводом к тому, чтобы усмотреть причинно-следственные связи и, возможно, изменить на этом основании свое поведение. Человека интересуют финалы — чем кончится та или иная история, чем кончится его собственная деятельность, человек строит внутренние модели и пытается предугадать будущее, веря в неслучайность совпадения событий, — и в итоге весь мир становится для него Знаком95. На этой базе возникают мифология и наука — обе они так или иначе удовлетворяют потребность человека знать причины всего сущего. Склонность усматривать в наблюдаемых фактах структуру (с тем чтобы на этом основании попытаться спрогнозировать дальнейшее развитие событий) усиливается, как показали недавние исследования, в ситуации стресса, когда человек чувствует, что утрачивает контроль над происходящим, — и в результате ему удается “обнаружить” закономерности даже там, где их в действительности нет96 {47}. Способность к пониманию причинно-следственных связей оказалась в сильной степени востребована в тех экологических условиях, в которых жили ранние гоминиды. Мозаичность ландшафтов способствовала не только увеличению разнообразия поведенческих стратегий, но и их поляризации: особи, склонные к более консервативному поведению, оставались в старых местообитаниях, особи же, легко меняющие модели поведения, осваивали окраины, все более и более превращавшиеся в саванны (подобным образом происходит не только освоение городов различными видами птиц, но и, например, деление групп у макак97). Тем самым в прежних биотопах шло накопление особей, наиболее хорошо приспособленных к ним, а в новых — накопление особей, приспособленных к наиболее гибкой смене поведенческих стратегий. Чем больше существует факторов внешней среды, которые невозможно предсказать настолько задолго, чтобы успеть генетически закрепить реакции на них, тем более востребованным становится поведенческое приспособление. В новых экологических нишах, которые осваивали наши далекие предки, способность быстро формировать новые поведенческие программы и передавать их соплеменникам была жизненно важна. С развитием производства орудий количество доступных поведенческих программ все более и более возрастало — соответственно, все сложнее было не только эффективно передавать сородичам эти программы, но даже просто ориентироваться в них, разбираться, когда какую осуществлять. Первую из задач еще можно решить средствами старой, довербальной, коммуникативной системы — действительно, когда один человек обучает другого манипуляциям с некоторым предметом (от вырезания кораблика из коры до завязывания шнурков), он использует минимум слов и минимум грамматики, дело обычно ограничивается репликами типа Смотри! Делай, как я! Это — вот сюда, Здесь чуть-чуть вот так и т. п. И даже это, как показывают данные наблюдений за обезьянами, в принципе не обязательно — можно обойтись вообще без слов. Но для того, чтобы определить, какую именно из богатого репертуара поведенческих программ следует выбрать в данном конкретном случае (и понять это по возможности быстро — пока ситуация не изменилась), полезно иметь ярлыки для разных ситуаций, соответствующие разным типам поведения. Такие ярлыки, как уже говорилось, позволяют выбрать оптимальную поведенческую стратегию максимально оперативно — иногда даже до того, как релевантные элементы ситуации станут доступны непосредственному наблюдению особи. Так, верветка, слыша крик “орел”, безошибочно определяет, что следует делать дальше. Но у наших предков возможных поведенческих программ, которыми необходимо было оперировать, было гораздо больше, и, главное, их число все возрастало, и возрастало все быстрее. Соответственно, нужна была коммуникативная система, предоставляющая в распоряжение особей принципиально открытое количество возможных обозначений для любых элементов окружающей действительности, которые хотя бы потенциально могут оказаться релевантными. В этой ситуации появляется спрос в первую очередь на сигналы-комментарии: группа выигрывает, если ее члены предоставляют друг другу больше возможностей для того, чтобы “понять”, что происходит вокруг, и иметь возможность скорректировать в связи с этим собственное поведение. Заметим, однако, что сигналы-комментарии не обязаны были быть звуковыми, поскольку более открытый ландшафт дает больше возможностей замечать сигналы при помощи зрения. В частности, с какого-то момента возникает стремление следить за взглядом сородичей. И этому соответствует развитие такой адаптации, как хорошо заметные белые склеры глаз. У шимпанзе тоже иногда видны белые склеры глаз, но лишь у единичных особей (см. фото 4 на вклейке)98, у человека же этот признак закреплен в геноме. Не обязаны сигналы-комментарии быть и преднамеренными — если особь будет “комментировать” свои действия невольно, ее сородичи смогут сделать нужные выводы с не меньшим (если не с бoльшим) успехом. Нет нужды в сознательной манипуляции действиями сородичей — они достаточно умны, чтобы сделать необходимые выводы самостоятельно (по крайней мере, чаще всего не менее умны, чем особь, подающая сигнал). Именно с этим, вероятно, связано стремление людей манипулировать не столько действиями, сколько вниманием собеседников99. Исследования психолингвистов показывают, что у детей комментарии составляют значительную долю всех высказываний — ребенок “тратит много времени, называя объекты и описывая действия”100 (собственно, и в мире взрослых коммуникативная успешность человека во многом оценивается по степени уместности его комментариев101). Как показывают примеры, приводимые М. Томаселло102, однословные высказывания — голофразы — маленьких детей во многих случаях употребляются сначала как аккомпанемент действия (делаемого или воспринимаемого, как, скажем, звонок телефона), потом для выражения просьбы или желания, и лишь потом для именования объекта. Например, слово rockin (от англ. rocking chair “кресло-качалка”) ребенок произносит сперва в тех случаях, когда качается в кресле-качалке, потом — в качестве просьбы покачать его в кресле-качалке и лишь затем в качестве наименования соответствующего объекта; слово play-play возникает сначала как сопровождение собственной “игры” на пианино и только потом начинает употребляться в качестве названия пианино, и т. д. Комментарии ощущаются детьми как предназначенные не только самим себе, но в значительной степени и окружающим: по наблюдениям Л.С. Выготского, среди глухих или иностранцев дети играют почти молча103. Возможно, подобного рода этап проходила при своем становлении и коммуникативная система гоминид. Предпосылки к овладению такой системой коммуникации есть и у обезьян: как комментарии можно рассматривать тревожные крики верветок, пищевые крики шимпанзе и т. п.; спорадически отмечались комментарии у антропоидов — участников “языковых проектов”. Так, например, горилла Коко иногда использовала жесты, обозначающие действия или предметы, перед тем, как произвести соответствующее действие или взять соответствующий предмет, жестикулировала сама с собой, обращаясь к игрушкам104. “Запротоколирован следующий любопытный случай: в 1976 г. Коко разыгрывала воображаемую социальную ситуацию между двумя игрушечными гориллами, розовой и голубой. Посадив игрушки перед собой, она сделала два раза жест “плохой” в сторону розовой гориллы, и жест “поцелуй” в направлении голубой игрушки. Потом показала жесты “гоняться щекотать” и ударила игрушки друг о друга. Затем она соединила игрушки, изображая их взаимную борьбу. После завершения воображаемой схватки Коко показала “хороший горилла хороший хороший””105. Уошо уже в самом начале освоения амслена “комментировала происходящее: “СЛЫШУ СОБАКА”, констатировала обладание куклой: “МОЙ МАЛЫШ””106. Самец шимпанзе Дар (один из членов “семьи Уошо”) “иногда, выглядывая в окно, “произносил”: “КОФЕ”. В каждом таком случае проверка показывала, что в этот момент он видел человека, идущего к соседнему зданию с чашкой кофе в руках”107. Видеозаписи, сделанные с 1981 по 1985 г., показывают любовь к комментариям самки шимпанзе Тату (также из “семьи Уошо”): лежа на полу с журналом, она “особенно любила находить фотографии мужских лиц, объясняя, что “ЭТО ДРУГ ТАТУ”, и разнообразно варьируя эту романтическую тему”108. Мог комментировать свои действия и попугай Алекс: намереваясь отправиться куда-нибудь, он произносил: “Хочу пойти…”, окончание же этой фразы “он варьировал в зависимости от того, где находился в настоящий момент и куда хотел попасть, причем начал делать это без специального обучения”109. Однако в целом комментарии у обученных языкам-посредникам животных отмечаются сравнительно редко.
Рис. 6.6. Канзи (в возрасте 4 лет) “разговаривает” сам с собой на йеркише. Способствовало развитию языка и то, что увеличение общих размеров тела, производство орудий, а затем и овладение огнем делали наших предков все более и более независимыми от окружающей среды, позволяли им создавать все бoльшие и бoльшие запасы энергии. Как пишет А.А. Зубов, уже “в эпоху архантропа полная сумма затрат энергии организма человека выросла, по сравнению с предшествующими стадиями эволюции, на 45 %, а энцефализация достигла 70–80 % уровня современного человека”110. В дальнейшем запасы энергии, которые могли использовать гоминиды, еще более возросли, и это дало им возможность сравнительно безболезненно платить за высокоэффективную систему коммуникации достаточно высокую цену. В этих условиях у гоминид постепенно развивается новая коммуникативная система. Развивается она способом, стандартным для эволюции коммуникативных систем, — увеличивается, с одной стороны, заметность некоторых действий, а с другой — эффективность их распознавания. Но при этом, если старая коммуникативная система в большей степени полагалась на подсознание и невольные “сигналы”, то новая ориентирована в большей степени на явно выраженные, преднамеренные знаки. Система невербальной коммуникации, ориентированной на подсознание, сохранилась, но во многих важных случаях люди предпочитают нечто более четко формулируемое. Например, при наличии выбора люди скорее сочтут начальством не обладателя властного голоса, а человека, сидящего в кабинете с надписью “Директор” или носящего мундир с крупными звездами (либо другими заметными деталями явно неутилитарного назначения). Слова Я сделаю это (независимо от интонации, с которой они были произнесены, от мимики, позы и жестов говорящего) обязывают человека менее, чем слова Я обещаю сделать это. Даже любовь многие люди не считают окончательно установленным фактом, пока не услышат Я тебя люблю, — и это при всей той колоссальной роли, которую играют в данной сфере невербальные средства. Понимание часто ассоциируется с подбором правильного названия. Именно так поступает, например, пушкинская Татьяна, стремясь понять Онегина. “Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено?”111 — если найденное слово будет сочтено верным, это вызовет у Татьяны ощущение, что достигнуто полное понимание и никаких загадок в душе Онегина для нее больше не осталось. Между тем, подобрать верное название для объекта можно лишь тогда, когда мозг хранит достаточно подробную картину чувств и ощущений, вызываемых этим объектом, — именно с этой картиной будет сопоставляться тот набор ощущений, который стоит за предлагаемым в качестве названия словом. В случае совпадения мозг выдаст решение: слово правильно, а в случае несовпадения возникнет желание продолжить перебор. Но без чувственного (несловесного) образа акт познания при помощи называния невозможен. Без помощи языка люди оказываются не в состоянии решать так называемую “задачу на переориентацию”: в одном из углов помещения на глазах испытуемого прячут некоторый предмет, после чего испытуемому завязывают глаза и раскручивают вокруг своей оси, а потом предлагают отыскать спрятанное. Обезьяны (причем даже не человекообразные) вполне способны догадаться, что если предмет был спрятан возле той единственной стены, которая выкрашена в синий цвет, то не нужно гадать, идти направо или налево — идти надо именно к синей стене. А дети с такой задачей начинают справляться лишь лет в шесть — тогда, когда смогут сказать себе “у синей стенки” (или т. п.)112. Явные, конкретные знаки, обращающиеся к сознанию, имеют то преимущество перед интерпретируемыми подсознанием невербальными сигналами, что с их помощью можно выразить информацию любой степени новизны и необычности — и это расширяет возможности использования языка как инструмента познания мира: любую пришедшую в голову идею об устройстве окружающей действительности люди могут сформулировать средствами языка и затем подвергнуть критическому осмыслению. В пользу гипотезы, что язык развивается как коммуникативная система — комментарий, говорит и то, что он до сих пор подсознательно воспринимается прежде всего именно в этом качестве. Люди, не получившие лингвистического образования, интуитивно считают язык системой ярлыков: слова — имена вещей, предложения — описания (именования) ситуаций. Если попросить сказать “какие-нибудь слова” на чужом языке, скорее всего будут названы существительные. При языковых контактах люди заимствуют слова из одного языка в другой — опять же, существительных среди заимствований существенно больше, чем глаголов, прилагательных и других частей речи. При зашумлении сигнала существительные распознать оказывается проще, чем глаголы113. “Знания” ассоциируются с существительными, поэтому в энциклопедии включаются существительные — но обычно не включаются глаголы (хотя, скажем, о действии “молотить” можно рассказать не меньше, чем о предмете “цеп”). Эксперименты по проверке того, как люди обращаются со словами, по большей части представляют собой операции с называнием предметов. Как отмечал А.В. Лурия, дети гораздо раньше начинают осознавать в качестве слов существительные — имена вещей, чем слова, обозначающие действия или качества: “если предъявить ребенку 3–5 лет, уже овладевшему элементарным счетом, два изолированных слова, например “стол — стул”, и предложить ему сказать, сколько именно слов было предъявлено, он без труда ответит: “Два”. Однако если от конкретных существительных обратиться к глаголам или прилагательным, предложив ему сочетание слов “собака — бежит” или “лимон — кислый”, он окажется уже не в состоянии дать правильный ответ: “Конечно, здесь одно слово “собака” и “лимон”””114.
Рис. 6.7. Гавагай!! Логик Уиллард Ван Орман Куайн115 придумал такую воображаемую ситуацию: лингвист, исследующий недавно открытое племя, видит, как бежит кролик, а один из туземцев, глядя на это, кричит: Гавагай! На каком основании лингвист догадывается, что слово гавагай означает именно “кролик”? — спрашивает Куайн. И действительно, как пишет Пинкер, “это может относиться к какому-то определенному кролику (например, по кличке Флопси). Это может обозначать любое покрытое мехом существо, любое млекопитающее или любого представителя биологического вида зайцев (например, Oryctolagus cuniculus), или любого представителя данной подразновидности (например, шиншилловый кролик). Это слово может обозначать скачущего кролика, скачущее существо, кролика вместе с землей, по которой он скачет, или процесс скакания вообще. Это может означать “существо, оставляющее следы”, или “место обитания кроличьих блох”. Это может обозначать верхнюю половину кролика, кроличье мясо живьем или обладателя по крайней мере одной кроличьей ноги. Это может обозначать все что угодно, от кролика до машины марки “бьюик”. Это может обозначать собрание неразъединенных частей кроличьей тушки или “Ого! Снова кроликообразность!” или “Крольчает” по аналогии со “Светает””116. В этом пассаже насчитывается десятка полтора вариантов для идеи, что первое попавшееся слово гавагай так или иначе обозначает предмет, — и лишь два варианта, которые (не без некоторой натяжки) могут рассматриваться как глаголы. Между тем в реальной жизни проводить бегущего кролика репликой Кролик! туземец мог бы, пожалуй, лишь в том случае, если он либо был страшно удивлен появлением кролика (в такое время или в таком месте), либо решил обучить куайновского лингвиста своему языку. В другой ситуации ожидалось бы услышать от туземца скорее что-то вроде Хватай!, или Черт возьми! (в смысле, что нет возможности этого кролика поймать), или Ушел!, или Глянь-ка!, или Надо же!, или Какой жирный!, или Беги! (подобно деду Мазаю, кричавшему зайцам У-ух! Живей, зверишки!), или что-то вроде Чур меня! (если пробежавший мимо кролик считается в этом племени дурной приметой). Но людям кажется, что язык — это, по умолчанию, имена вещей, и поэтому С. Пинкер уверен, что, “логически рассуждая, это должно значить “кролик””117. Для слов — имен вещей у человека есть указательный жест (и, тем самым, остенсивное определение). Ни для глаголов, ни для прилагательных, ни для служебных частей речи ничего подобного нет. Тот факт, что у человека есть средство обратить внимание другого на объект, но нет всеобщего конвенционального средства обратить чье-то внимание на то или иное свойство объекта (скажем, на его цвет, запах или звук) или на его действия, свидетельствует, что именно объекты являются для нас самыми важными составляющими окружающей действительности. Соответственно, именно их имена и ощущаются как основная часть нашей коммуникативной системы. О том, что предложения подсознательно считаются описаниями ситуаций, невольно свидетельствуют синтаксические теории. “Базовый порядок слов” — это такой, который будет использован при описании картинки. Например, в русском языке базовым считается такой порядок слов, когда подлежащее предшествует сказуемому, а прямое дополнение следует за ним: Мальчик читает книгу. В реальном разговоре такой порядок встречается не слишком часто — но ощущению его “базовости” это обычно не мешает. Термин “эллипсис” означает, что предложение, реально встретившееся в речи, не является “полным” в сравнении с некоторым постулируемым идеалом — в нем “опущены” некоторые элементы. Например: — Ты будешь кофе с молоком? — Буду. (Вместо: Да, я буду кофе с молоком.) Показательно, что все знаменитые синтаксические примеры — от Фермер убил утенка до Бесцветные зеленые идеи яростно спят — представляют собой именно предложения, являющиеся описаниями ситуаций. Синтаксисты не начинают свои теории с предложений типа Он об этом ни гугу, Ну-ну! Пошел вон! или По Сеньке и шапка — такие высказывания рассматриваются как результаты трансформаций и эллипсиса (ср., впрочем, замечания на этот счет французского лингвиста Поля Гарда118). Специализация к когнитивной нише — при расширении репертуара пищедобывательных стратегий, а затем и изготовления и использования орудий — привела к увеличению спроса на комментарии: особь, которая делала свои действия и наблюдения заметными для окружающих, становилась дополнительными глазами и ушами всей группы. Тем самым происходило объединение мышления (направленного на постижение окружающей действительности) с коммуникативной системой (расширяющей возможности для такого постижения). При этом, поскольку организмы с развитыми префронтальными отделами коры способны делать выводы из нескольких посылок, комментарии не становились руководством к немедленному действию (как у верветок), а лишь служили подспорьем для собственных умозаключений каждой особи в отдельности. Именно этим объясняется упоминавшаяся выше способность людей по-разному реагировать на одно и то же сообщение. Реплики типа Вы, вероятно, хотели сказать…? Вы имели в виду…? Нет, наверно, не…, а… свидетельствуют о том, что мы больше угадываем намерение говорящего, чем выводим его логически из сказанных им слов. Слова — лишь помощь для этого угадывания (а иногда и помеха), и именно поэтому люди склонны считать, что в любом высказывании помимо текста может быть подтекст (а возможно, даже специально зашифрованный дополнительный смысл), что два и более высказывания могут описывать в точности одну и ту же ситуацию (и быть тем самым синонимическими преобразованиями друг друга). Более того, попытки слушателя не угадать, что имел в виду говорящий, а интерпретировать услышанное максимально буквально могут расцениваться как невежливые. Как пишет М. Томаселло119, выучивание языка ребенком в сильнейшей степени обусловлено его способностью угадать коммуникативное намерение взрослого. Первые слова, появляющиеся в лексиконе малыша, — это не только существительные — названия предметов и людей, но и другие слова, обнаруживающие четкую связь с хорошо заметной и легко понятной ситуацией, такие как нет, дай, еще, мокро, холодный, хороший, там, пока (прощание), англ. hi(“привет!”), bye(“пока!”), а также нерасчлененные фразы типа lemme-see(< англ. let me see “покажи, дай посмотреть”). Единственное общее свойство всех этих языковых выражений — легкость угадывания соответствующего коммуникативного намерения. Чем проще соотнести тот или иной элемент языка с условиями его появления, тем быстрее этот элемент начинает устойчиво воспроизводиться в речи ребенка. И даже овладение именами вещей напрямую зависит от того, сможет ли ребенок сообразить, что именно хочет сказать ему взрослый: если взрослый показывает на какую-то деталь объекта, ребенок считает поименованной эту деталь, если же там, куда направлено внимание, никаких четко выделимых деталей нет, ребенок считает, что назван объект в целом. Но если внимание ребенка приковано к детали, а взрослый (не замечая этого или по каким-то иным причинам) называет объект целиком, ребенок будет уверен, что данное слово обозначает именно эту деталь120. Сходный случай был описан для верветок. Как-то раз один детеныш, увидев слона, издал крик, обозначающий леопарда. И в этот же момент с этой же самой стороны показался леопард. Бывший рядом взрослый самец издал крик “леопард”, что было воспринято детенышем как подтверждение — с тех пор он стал при виде слонов издавать крик “леопард”, по-видимому, полагая, что соответствующее “название” относится именно к этому виду животных121. Взгляд на нашу коммуникацию как на угадывание позволяет объяснить, почему язык столь избыточен, столь неточен, помимо четко упорядоченного ядра содержит обширную размытую периферию. Если эффективность использования коммуникативной системы зависит от того, насколько слушающий сможет угадать коммуникативное намерение говорящего, то верхний предел количества “недостатков” в такой системе определяется как та грань, за которой слушающий теряет такую возможность. Соответственно, чем более слушающий умен, тем меньше строгости и четкости обязано быть в коммуникативной системе. Избыточность помогает слушающему: когда одна и та же информация выражена несколько раз, достаточно адекватно интерпретировать лишь часть ее, чтобы полностью восстановить тот смысл, который хотел передать говорящий. У тех видов, чьи когнитивные способности меньше, коммуникативная система должна либо быть предельно четкой (как у верветок), либо полагаться не на информирование, а на заражение эмоциями. Разумеется, особи, наделенные “компетентным сознанием” (“теорией ума”), не могли не использовать возможности новой коммуникативной системы в личных целях: если существует возможность скорректировать имеющийся у собеседника образ окружающей действительности, можно сделать это так, чтобы собеседник изменил свое поведение к выгоде подающего сигнал. Последнее может быть достигнуто различными способами — можно обратить внимание собеседника на что-либо, прямо побудить его к осуществлению тех или иных действий и даже обмануть — с тем чтобы он, исходя из неверных представлений, совершил те или иные действия, выгодные говорящему. Наконец, можно альтруистически поделиться с сородичем информацией подобно тому, как можно поделиться пищей. Впоследствии именно функции, связанные с намеренной передачей информации, становятся для языка основными, а комментирование в значительной степени переходит, как и в онтогенезе, во внутреннюю речь (составляя основу одного из типов мышления). Кроме того, такую коммуникативную систему можно использовать для создания хорошего мнения о себе и плохого о потенциальных конкурентах или просто недружественных особях (эта возможность, а также то, что хорошее владение языком обычно достаточно хорошо коррелирует с высоким общим уровнем умственных способностей, дает почву для идеи об особой роли полового отбора в становлении языка). При эффективном владении системой коммуникации можно с ее помощью управлять чувствами и поведением окружающих и добиваться высокого социального статуса, дружеского расположения, признания и т. д. Но, разумеется, правдивая информация о сородичах тоже передается с помощью языка. И это позволяет формировать общественное мнение, делать информацию о любом из членов группы (о его “моральном облике”, поступках в тех или иных ситуациях, суждениях по тем или иным поводам) общим достоянием, создавая репутацию. Репутация становится инструментом регулирования отношений в социуме, что позволяет усложнять социальную структуру, организовывать взаимодействия между членами больших коллективов — бoльших, чем группировки обезьян, — и над-групповых объединений. А усложнение социальных отношений еще более увеличивает число поведенческих программ, в которых необходимо ориентироваться, и тем самым способствует дальнейшему развитию системы коммуникации. Развитие коммуникативной системы, делая будущее более предсказуемым, позволяло предвидеть его настолько, чтобы стало возможным делать всё более совершенные (и более затратные в изготовлении) орудия. Это, в свою очередь, способствовало дальнейшему увеличению разнообразия поведенческих стратегий и еще более повышало потребности в развитии коммуникативной системы. У гоминид, по всей видимости, имелась способность (зафиксированная и у современных обезьян) пользоваться ad-hoc-сигналами, изобретая их непосредственно в процессе взаимодействия. Кроме того, они, подобно современным обезьянам, наверняка могли запоминать результаты актов коммуникации, в которых они сами не участвовали, а были лишь сторонними наблюдателями. Изобретенные “по ходу дела” сигналы могли быть переняты другими особями так же, как перенимается другое поведение, — при помощи подражания. Отбор на эффективность коммуникации давал преимущество тем группам, члены которых были склонны запоминать однажды созданные сигналы и затем повторять их для обозначения сходных ситуаций, не пытаясь изобретать что-то новое. Соответственно, детеныши в таких группах должны были в большей степени, чем в других группах, иметь потребность в выучивании сигналов. Тем самым общее число сигналов постепенно возрастало. В то же время обозначения одного и того же унифицировались (как показывают компьютерные модели, см. выше). Но едва ли, как нередко пишут, сначала знаков (слов) было 2–3, а потом постепенно их количество дошло до многих тысяч. Более того, вопрос о том, сколько знаков содержит наугад взятая система коммуникации, где внешняя форма знаков не является врожденной, на мой взгляд, не всегда осмыслен. Например, если маленький ребенок, овладевающий языком, ежедневно (уже не первую неделю) правильно употребляет, скажем, пять слов, можно с уверенностью утверждать, что он их знает. Но можно ли сказать, что он знает слова, которые он сам не произносил ни разу, но многократно слышал в репликах, обращенных к нему, и понимал эти реплики? Можно ли сказать, что он знает слово, которое он произнес, но наблюдатели не уловили связи между смыслом этого слова и ситуацией, в которой оно было произнесено? Очевидно, что это несколько разные классы знания. И овладение лексикой заключается в переходе все большего количества слов из двух последних классов в первый. Представляется, что для антропоидов, пользующихся ad-hoc-сигналами, ситуация во многом подобна описанной. И переход от до-языка к языку у гоминид заключался в постепенном увеличении числа активно употребляемых сигналов. Первые сигналы новой коммуникативной системы не могли не быть иконическими, поскольку они были сигналами ad hoc, делавшимися “на ходу”, и тем самым должны были быть понятны без предварительной подготовки — поскольку особи, которым был адресован сигнал, никогда ранее с ним не сталкивались. Но при повторении сигналов иконичность постепенно утрачивается, поскольку для понимания уже известного знака достаточно, чтобы он просто был опознан. Утрата иконичности характерна для знаков письма (при переходе от пиктографии к идеографии), для знаков жестовых языков (см. гл. 2). “Наблюдать эволюцию знаков от иконических к символьным можно также на примере игры в “шарады”, заключающейся в том, что участники показывают друг другу фразы исключительно при помощи пантомимы, без каких-либо указаний на звуковой или буквенный облик входящих во фразу слов. Первоначально пантомимические “обозначения” слов иконичны, поскольку должны быть понятны без предварительной подготовки. Однако, если какое-либо слово встречается не в первый раз, оно демонстрируется при помощи уже использовавшихся приемов, при этом сами действия несколько редуцируются — остается ровно столько, сколько необходимо для понимания, что демонстрируется то же самое слово. При неизменности состава участников игры внешнее сходство между означающим и означаемым многих слов почти полностью утрачивается уже к третьему-четвертому повторению”122. Так иконические знаки сменяются знаками-символами с произвольной связью между формой и смыслом.
Рис. 6.8. Эволюция шумерских иероглифов. Накопление же знаков-символов неизбежно приводит к тому, что в каждом из них выделяются своего рода “опорные компоненты” — немногочисленные и легко запоминающиеся конструктивные элементы, которыми знаки отличаются друг от друга. По-видимому, всякая система произвольных знаков, достаточно развитая, чтобы приток новых иконических знаков был пренебрежимо мал по сравнению с количеством уже существующих знаков (которое к этому моменту само по себе достаточно велико), приходит к двойному членению того или иного вида (в зависимости от субстанции, в которой она реализуется) в результате внутренней структуризации (начинает воспроизводиться не весь сигнал целиком, а лишь его “опорные компоненты” — то, что позволяет не перепутать его с другими сигналами). “Яркий пример возникновения двойного членения при переходе от преимущественно иконической к преимущественно символической организации знаковой системы” являет “эволюция иероглифических систем письма, как китайской, так и переднеазиатской”123: “Как известно каждому китаисту или японисту, любой иероглиф состоит из фиксированного числа черт, а множество самих этих черт содержит лишь чуть более десяти элементов”124, из пяти базовых компонентов состоят знаки клинописи125. Членимость значащих элементов на мелкие составные части, не имеющие собственного значения, усматривается и во многих коммуникативных системах животных — есть основания предполагать, что в развитых системах это свойство возникает с неизбежностью.
Рис. 6.9. Эволюция китайских иероглифов. С момента разложения знаков на такие элементы возникает возможность выучивать их с первого предъявления {48}, как это делают дети. И это позволяет им усваивать “в среднем по десять новых слов в день с момента появления на свет, что соответствует одному новому слову за каждые 90 минут бодрствования”126. Таким словом, которое сразу опознается как отличное от других, можно немедленно начинать оперировать — хранить в памяти, соотносить с действительностью, ассоциировать с другими словами. Когда знаков становится много, между ними с необходимостью возникают разнообразные ассоциативные связи. Поскольку нейронные пути не изолированы друг от друга непроницаемыми перегородками, оказывается, что при активации комплекса нейронов, соответствующих некоторому одному знаку, активируются также нейроны, соответствующие некоторым другим, “соседствующим” с ним знакам, — подобно тому, пишет У. Кэлвин, “как толстые пальцы могут нажать две фортепианные клавиши одновременно или попасть на соседнюю клавишу”128. Чем больше знаков используется, тем больше возникает ассоциаций. Кроме того, при активации комплекса нейронов, связанных с названием, например, предмета, активируются нейроны, связанные с восприятием его цвета, запаха, действий с ним (см. гл. 2), — а эти комплексы тоже могут быть связаны с соответствующими названиями. Возникновение ассоциаций чрезвычайно важно для функционирования языка, поскольку возможность связывать знаки со знаками в отсутствие обозначаемых предметов обеспечивает языку свойство перемещаемости (т. е. возможность говорить о вещах, удаленных в пространстве и/или во времени). Кроме того, накопление знаков с какого-то момента начинает давать возможность создавать новые знаки не на базе реальных ситуаций, а на базе уже известных знаков, несколько модифицируя их. Модификация может быть любой — можно добавлять к знаку дополнительный компонент (например, добавлять к жесту вокализацию или, скажем, мимическое движение), можно заменять один из компонентов другим (например, делать жест другой рукой или в другую сторону, произносить звуковой сигнал на несколько более низкой или высокой частоте, менять интонацию), можно, наконец, добавлять к знаку другой знак. Спорадические случаи видоизменения знаков засвидетельствованы и у антропоидов — участников “языковых проектов”. Так, для выражения значения “совсем гнилой” или “очень гнилой” горилла Коко стала по собственной инициативе производить жест “ГНИЛОЙ” не одной рукой, а двумя; для выражения значения “очень большой аллигатор” обе обученные языку жестов гориллы, Коко и Майкл, производили движение, имитирующее щелканье челюстей, не кистями, а руками целиком 129. Но необходимости в том, чтобы постоянно создавать новые знаки, модифицируя старые, у обезьян (по крайней мере, в природе) нет, поэтому система из исходных знаков и их модификаций, которая могла бы быть аналогом человеческого языка, у обезьян не складывается. Запоминание некоторого количества пар знаков, таких, что один из членов каждой пары является модификацией другого, дает возможность обобщить модификацию и применять ее впоследствии для создания новых знаков. Именно это делает коммуникативную систему “достраиваемой”, то есть позволяет, зная небольшое количество исходных элементов и правил их преобразования, создавать неограниченное количество новых сообщений, что, на мой взгляд, и знаменует собой переход от “дочеловеческой коммуникативной системы” к собственно языку. Модификация знака путем добавления к нему другого знака порождает синтаксис: сначала возникает “протограмматика”, описанная Т. Гивоном, затем на базе линейной последовательности сигналов, как показано Дж. Байби, развивается синтаксическая структура. Модификация же знака путем изменения или добавления к нему элементов, не являющихся отдельными знаками, порождает морфологию. Как уже говорилось в гл. 2, часть знака, получившая осмысление за счет контекста, может приобрести способность сочетаться с другими знаками, добавляя к ним тот же самый дополнительный смысл, — и в результате этого возникнет целый ряд знаков, связанных друг с другом одним и тем же морфологическим отношением. Кроме того, морфология возникает в результате грамматикализации — как это могло происходить в процессе глоттогенеза, подробно показано в работах Т. Гивона130 и Б. Хайне и Т. Кутевой131.
Рис. 6.10. Схема возникновения языка. В результате формирования разного рода правил преобразования система знаков, доступная каждому индивиду, становится потенциально бесконечной — а это, в свою очередь, создает базу для развития различных стилей, синонимии, появления слов, обозначающих один и тот же объект с разными оценками, и т. д., и т. п. (см. гл. 1), дает почву для накопления и передачи любого количества опыта в любой области. При изучении происхождения языка невозможно обойти вопрос о том, сложился ли язык как достраиваемая система символьных знаков, обладающая словарем и грамматикой, только на базе членораздельной звучащей речи, или же он мог сформироваться ранее и лишь впоследствии перейти на звуковую основу. Предложенный алгоритм (накопление знаков с последующим возникновением двойного членения и грамматики), — как кажется, может быть реализован на любой субстанции, будь то жесты, мимика, нечленораздельные вокализации, членораздельная звучащая речь или сочетание нескольких носителей. Различия будут касаться лишь природы элементарных единиц (будут это фонемы, хиремы или, например, ноты) и типа модификации. Представляется даже более вероятным, что первоначально в коммуникативной системе сочетались и жесты, и звуки, и мимика, подобно тому, как это происходит у современных обезьян (не только человекообразных, но даже низших узконосых132), — поскольку главным для этой системы был не носитель сигналов, а расширение возможности делать выводы об окружающем мире. Скорее всего, как пишет Томаселло (см. выше), звуки первоначально играли по отношению к основным носителям информации — жестам — примерно ту же роль, что в современном языке играет интонация по отношению к словам — роль эмоционального дополнения. Тем не менее по самой своей природе новая коммуникативная система не могла в итоге не стать звуковой. И дело здесь не в том, что жестово-мимическая коммуникация неудобна в темноте, на расстоянии или среди густой растительности, как полагает, например, Т. Гивон133 (обратим внимание на звуковую составляющую коммуникации шимпанзе, которая дает им возможность ориентироваться на поведение сородичей среди густой растительности тропического леса). Если задача коммуникативной системы состоит прежде всего в воздействии на конкретную особь (с целью, например, попросить ее о чем-то, поухаживать, выяснить иерархические или территориальные отношения и т. п.), то такая система допускает (и даже предполагает) переключение с обычной активности на коммуникативную — особь отвлекается от своих действий, устанавливает контакт с другой особью и начинает коммуникацию. Но если цель коммуникативной системы состоит в том, чтобы во время обычной деятельности каждая особь становилась глазами и ушами всей группы, давала другим особям основания для выводов об окружающей действительности, то отвлечение от собственных действий ради коммуникации лишает коммуникацию смысла. При таких исходных предпосылках преимущество получают те группы, члены которых способны как можно быстрее понять то, что им сообщают. В идеале — еще до начала передачи информации, по звуку общего возбуждения или привлечения внимания догадаться (хотя бы в какой-то степени) о том, что будет сообщено. В принципе такое не невозможно: так, человек, слыша обращение к себе по имени, может по интонации предугадать часть смысла будущего сообщения — намерен ли говорящий просить его о чем-то, угрожать ему, стыдить, подозвать к себе, сообщить о каком-то поразившем его событии и т. д.; при становлении речи у ребенка овладение интонацией происходит до овладения словами (см. гл. 1). Соответственно, отбором будет поощряться все более вариабельный исходный сигнал и все более точное “угадывание” другими особями по этому сигналу, что же будет сообщено. В этом случае информационная нагрузка переместится на звуковой канал, использование же прочих каналов редуцируется. Весьма вероятно, что первоначально основными носителями намеренно передаваемой сигнальной информации у гоминид, как и у современных приматов, были жесты — они подчинены волевому контролю и могут использоваться для создания ad-hoc-сигналов. Но когда объем манипулятивной активности гоминид возрос, в частности, за счет изготовления и применения орудий, сочетание обычной и коммуникативной деятельности стало затруднено134: руки не могли одновременно делать орудия и знаки, мозгу приходилось выбирать, какой сигнал посылать на руки, какую информацию обрабатывать — от практических движений или от сигнальных (подобные затруднения легко смоделировать, попытавшись говорить и одновременно с этим жевать жвачку). Это, по-видимому, привело к эффекту “замещения” — сигнал из мозговых структур, управляющих коммуникацией, стал подаваться не только на руки, но и на органы звукопроизводства. Такое замещение могло быть облегчено тем, что у приматов управление ротовым аппаратом и управление руками связаны между собой, поскольку эти органы вместе задействованы в питании, груминге и т. д.135. Подача коммуникативного сигнала на руки, впрочем, так и не была до конца заблокирована — и поэтому люди жестикулируют при разговоре (имеется в виду не использование значащих жестов типа “погрозить пальцем”, а то, что называется “размахивать руками”). Подобная жестикуляция не преследует цели коммуникативного воздействия с использованием визуального канала передачи информации: так, люди жестикулируют, говоря по телефону или ведя радиопередачу136, жестикулируют даже слепые137; если лишить человека возможности “размахивать руками”, речь оказывается затруднена. От значащих жестов такое, как иногда говорят, “автодирижирование” отличается не только тем, что оно в значительной степени непроизвольно, но и тем, что оно не использует пальцы — кисть участвует в нем как единое целое, пальцы обычно слегка согнуты (как если бы они удерживали некий предмет). В результате все более частого “попадания” коммуникативного сигнала на органы звукопроизводства и все большего сокращения участия в коммуникации рук развивается возможность коркового контроля за движениями органов речевого тракта. С возникновением новой системы управления звуком появляется и новый звуковой анализатор — выделяются нейроны, специально ориентированные на распознавание речи. Но при этом жесты помогают лучшему пониманию речи: если слушающий не видит жестикуляции говорящего (или говорящий вместо того, чтобы жестикулировать, например, почесывается), то для понимания сообщения необходима более активная работа мозга138.
Рис. 6.11. Перераспределение главной и второстепенной роли звука и жеста происходило постепенно. Можно предложить и несколько иной сценарий: в поведении все более усиливался сознательный компонент, люди (склонные, как пишет М. Томаселло, к кооперации) обретают желание сопровождать свои действия “усилителями заметности”, чтобы дать соплеменникам больше материала для понимания причинно-следственных связей. В этом случае они будут стремиться к намеренному издаванию звуков. Сначала это будет похоже на актерскую игру: индивид вызывает у себя представление о том состоянии, в котором он испускает сигнал, — и сигнал испускается. Далее происходит процесс, сходный с ритуализацией: с каждым следующим повторением требуется вызывать у себя все менее полное представление о том состоянии, в котором производится сигнал, и в конце концов от этого представления остается только та часть, которая собственно и порождает нужный звук. Впрочем, такой вариант развития событий представляется несколько менее правдоподобным. Затем бoльшая и меньшая значимость звука и жеста перераспределяются подобно тому, как перераспределяются основные и дополнительные признаки фонем в ходе развития языков современного человека139. Постепенно возможности артикуляции расширяются, как показано в работах Б. Дэвис и П. Мак-Нилиджа (см. выше). Таким образом формируется новый мозговой механизм управления звукопроизводством. Впрочем, старый, подкорковый механизм управления вокализациями, имевшийся у предковых видов и связанный с эмоциями, у современного человека тоже сохраняется. Смех, рыдания, вопли ужаса, стоны боли и т. п. — все эти звуки управляются лимбической системой. Они являются врожденными, как и звуковые сигналы обезьян, и так же мало доступны волевому контролю — их можно подавить, но трудно вызвать волевым усилием и практически невозможно модулировать (можно лишь сыграть — при наличии актерского таланта — комплексное ощущение, как бы переживая соответствующую эмоцию целиком, и на этом фоне издать соответствующий звук). Но не только это отличает их от речевых звуков — звуки эмоций не делятся на фонемы, их невозможно вставить в высказывание, они не участвуют в словообразовании. Все это, по-видимому, свидетельствует о том, что эволюция языка заключалась не в преобразовании звуковой сигнализации из врожденной в управляемую, а в формировании новой системы управления звуком при сохранении старой системы на периферии коммуникативной сферы. Эти две системы могут конкурировать за управление вокализацией140 — если, например, человеку смешно, ему трудно начать внятно произносить слова. Как уже говорилось, формирование определенных поведенческих навыков может предшествовать генетическому закреплению тех особенностей, которые оптимальны для их реализации (эффект Болдуина). Например, поздние австралопитеки умели изготавливать орудия (см. гл. 3), и у вида-потомка — Homo habilis — сформировались характеристики, способствовавшие их регулярному изготовлению (обратный порядок — сначала обретение в результате случайной мутации хорошо приспособленной для изготовления каменных орудий кисти и более развитого мозга, а затем употребление всего этого для изготовления орудий — представляется маловероятным). Таким образом, обнаруживая у вида-потомка анатомические, физиологические и когнитивные свойства, предрасполагающие к определенному поведению, мы можем сделать вывод, что соответствующее поведение начал осваивать еще вид-предок. Так, зафиксированное у неоантропа развитие, с одной стороны, органов слуха и слухового анализатора, с другой — органов звукопроизводства и управления им (с тем чтобы все большее количество различий в окружающем мире могло получить отражение в виде различий в сигнале), по-видимому, свидетельствует о том, что виду-предку уже было свойственно полагаться прежде всего на звуковой канал передачи информации141, вероятно, он мог до некоторой степени управлять звуком по собственной воле и стремился к дифференциации различных звуковых знаков. Соответственно, именно он должен был пройти стадию перехода от иконических (звукоподражательных) знаков к символьным, оставляя виду-потомку в наследство лишь необходимость осуществить регулярное двойное членение. Можно наметить примерно такую гипотетическую линию развития языка у гоминид: у ранних Homo, регулярно изготавливавших орудия, носивших их с собой и применявших в разнообразных ситуациях, не могли не начаться трудности с общением при помощи жестов. Соответственно, выигрыш должны были получить те группы, которые научились извлекать максимум пользы из звуковой составляющей коммуникации — тогда их потомки, архантропы, уже должны были быть в какой-то степени способны к волевому управлению звуком. Можно предполагать, что общение на близком расстоянии, с членами собственной группы, играло у архантропов все более важную роль — и именно поэтому слух вида-потомка, Homo heidelbergensis, оказался настроен на преимущественное распознавание не далеко слышных низких частот (как у шимпанзе), а более полезных для близкого общения высоких частот. Вероятно, “архантропы вследствие массивности челюстей могли произносить только небольшое число различных выкриков”142. Поскольку у них не было возможности произносить длинные высказывания (вследствие недостаточных анатомо-физиологических средств для управления дыханием), они могли общаться при помощи голофраз, возможно, как современные дети, не столько описывая таким образом те или иные ситуации, сколько выражая свои эмоции по их поводу. Потомок архантропов, Homo heidelbergensis, скорее всего, уже владел довольно развитой звучащей речью, используя те же звуковые частоты, что и мы. Может быть, в его речи уже существовали фонемные различия — по крайней мере, устройство его речевого аппарата было настолько близко к нашему, насколько позволяют судить ископаемые данные. У него же, вероятно, начался переход от преимущественно эмоциональных сигналов к знакам-символам — именно с этим видом связываются первые “свидетельства символизма” (см. гл. 3). Возможно, он даже мог произносить высказывания длиной более чем в один слог — по крайней мере, ширина позвоночного канала у него была такой же, как у современных людей, — и, соответственно, пользовался “протограмматикой”. Переход же к настоящему языку осуществили уже неоантропы. Разумеется, не стоит думать, что все изложенное в заключительной части этой главы — истина в последней инстанции. К этой гипотезе, как и к любой другой, стоит относиться с должным сомнением. Сомнение порождает желание проверить, и, если гипотеза такую проверку выдержит, это будет весомым подтверждением ее правильности. Если же гипотеза не выдержит проверки, это будет означать, что удалось найти какие-то новые факты, установить новые закономерности — а значит, есть возможность сформулировать новую, более адекватную реальности гипотезу. Говорить об окончательном решении проблемы глоттогенеза пока, наверное, рано, но тем не менее наука значительно продвинулась в этом направлении, что позволяет надеяться на приближение к разгадке этой многовековой тайны. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |
||||
|
|
||||

 (новгородская берестяная грамота № 605) “Зачем же ты гневаешься?” (союз А, как и в современном русском языке, собственного ударения не имеет). Но к XVII в. он вошел в состав глагольных форм 46 и даже стал подвергаться чередованиям — в виде — ся он выступает после согласной, в виде — сь — после гласной (во всех формах, кроме причастных).
(новгородская берестяная грамота № 605) “Зачем же ты гневаешься?” (союз А, как и в современном русском языке, собственного ударения не имеет). Но к XVII в. он вошел в состав глагольных форм 46 и даже стал подвергаться чередованиям — в виде — ся он выступает после согласной, в виде — сь — после гласной (во всех формах, кроме причастных).