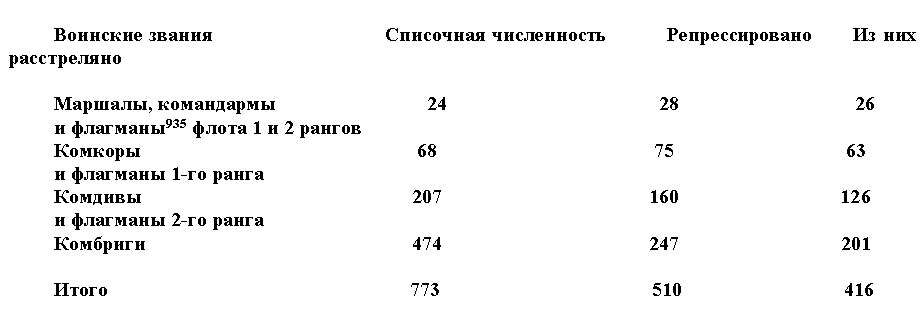|
||||
|
|
4. Гитлер выходит в большой мир.4.1. Тетушкины деньги.Итак, в середине февраля 1908 года Гитлер снова в Вене. Он так рассказывал об этом в «Майн Кампф»: «Мать умерла после долгой тяжелой болезни, которая с самого начала не оставляла места надеждам на выздоровление. Тем не менее, этот удар поразил меня ужасно. Отца я почитал, мать же любил. Тяжелая действительность и нужда заставили меня теперь быстро принять решение. Небольшие средства, которые остались после отца, были быстро израсходованы во время болезни матери. Сиротская пенсия, которая мне причиталась, была совершенно недостаточной для того, чтобы на нее жить, и мне пришлось теперь самому отыскивать себе пропитание. С корзинкой вещей в руках, с непоколебимой волей в душе я уехал в Вену. То, что 50 лет назад[764] удалось моему отцу, я надеялся отвоевать у судьбы и для себя; я также хотел стать «чем-нибудь», но конечно ни в коем случае не чиновником».[765] Мазер развивает его тезисы: ««Во мне вновь проснулось былое упрямство, и у меня теперь была конечная цель. Я решил стать архитектором[766]», — пишет он. То, что это не пустые слова, подтверждается документами».[767] Временами бывает очень трудно понять Мазера. Какими же документами могут подтверждаться эти слова Гитлера, если последний не предпринял ни малейших попыток ни учиться на архитектора, ни работать архитектором? Хотя Гитлер, как уверяет Мазер, «работает усердно, последовательно и целенаправленно. У живущего в Вене скульптора Панхольцера, который к тому же преподает в школе и является опытным педагогом, он берет уроки искусства, чтобы не тратить попусту время до следующих вступительных экзаменов. Каким образом он познакомился с Панхольцером, установить не удалось».[768] Но из описаний образа жизни Гитлера, хорошо известного благодаря наличию в этот период Кубицека в его ближайшем окружении, возникает совершенно иная картина: «если Кубицек всецело отдается учебе, то Гитлер продолжает вести бесцельную, неупорядоченную жизнь, к которой он уже так привык: «Я сам распоряжаюсь своим временем», — так высокомерно заявлял он. Спал он обычно до полудня, потом шел гулять по улицам или по Шенбруннскому парку, заходил в музеи, а вечером отправлялся в оперный театр, где, как говорил впоследствии, с замиранием сердца слушал «Тристана и Изольду» — оперу, на которой он побывал в те годы раз тридцать или сорок, либо какую-нибудь другую постановку. Затем его страстью становятся публичные библиотеки, где он с неразборчивостью самоучки читает то, что подсказывает ему настроение или сиюминутное желание, или же он стоит, погрузившись в свои мысли, перед роскошными строениями на Рингштрассе и мечтает о еще более грандиозных постройках, которые когда-нибудь будет возводить он сам. /…/ А на заданный как-то вопрос о том, чем он иной раз с таким увлечением занимается целыми днями, был получен ответ: «Я работаю над разрешением проблемы нехватки жилья в Вене и провожу в этих целях кое-какие исследования».»[769] Комментарии излишни!.. На какие же шиши велся этот вольготный образ жизни? Сам Гитлер позднее заявлял, что пять лет, проведенных им в Вене (здесь он, заметим, не ошибался таким же образом, как тогда, когда сознательно изменил срок выбытия из Вены с 1913 года на 1912-й; пять лет — это как раз с весны 1908 по весну 1913!), сопровождались тягостной нуждой для него: «Пять лет нужды и горя были уготованы мне этим городом-сибаритом. Пять лет, в течение которых мне пришлось зарабатывать себе на кусок хлеба, — сперва разнорабочим, а затем маленьким художником; это был поистине скудный кусок, и его никогда не хватало, чтобы утолить хотя бы привычный голод. А голод был тогда моим верным стражем, единственным, кто почти никогда не покидал меня».[770] Фест разрушает эту легенду: «точный подсчет его доходов доказывает, что в начальный период его пребывания в Вене из причитавшейся ему части отцовского наследства, а также из наследства, оставленного матерью, и из страховой пенсии по сиротству, не считая его собственных заработков, складывалась ежемесячно сумма в 80-100 крон. Это равнялось жалованью юриста в чине асессора, а то и превышало его. Точный подсчет месячных доходов Гитлера проделан Ф. Етцингером, который с педантичной скрупулезностью выявил все источники доходов и точное имущественное положение Гитлера».[771] К сожалению, эти расчеты Етцингера не имеют никакого отношения к истинному материальному положению Гитлера в Вене, потому что оно определялось не всеми этими известными источниками доходов Гитлера, а тем, что же из них реально попадало к нему в руки. А вот тут-то и выясняется, что в руки к Гитлеру попадало далеко не все, на что он мог рассчитывать, но зато попадало многое из того, что заведомо не учитывалось Етцингером. Скандал на эту тему между Гитлером и его родственницами разразился в 1911 году. К весне 1911 года в семейном положении ближайших родственниц Гитлера произошли серьезные изменения. После смерти матери забота о Пауле перешла не к тетке Иоганне-младшей, как можно было бы ожидать, а к Ангеле Раубаль, старшей сестре Адольфа и Паулы. 10 августа 1910 года Ангела овдовела, оставшись с 14-ти летней младшей сестрой и с тремя малолетними детишками на руках: Лео (родившимся 2 октября 1906), Ангелой-младшей (родившейся 4 июня 1908) и Эльфидой (родившейся 10 января 1910).[772] 29 марта 1911 года умерла от диабетической комы тетка Гитлера Иоганна-младшая,[773] ей тогда шел или уже исполнился только сорок восьмой год. Пауле в то время было 15 лет. Вот тут-то сестренки, очевидно, и обнаружили в бумагах умершей тетушки расписку их братца Адольфа, получившего от этой тетушки не много не мало 3800 крон! Мы не знаем, как решался и как решился вопрос о других возможных наследниках Иоганны-младшей — ее сестре Терезии Шмидт и ее детях. Так или иначе, но сестры Гитлера подсчитали, что Адольф, прихватив 3800 крон, забрал из доли сестры Паулы (Ангела и ее дети не были наследниками Иоганны) не причитающиеся ему 600 крон.[774] Легко сосчитать, таким образом, что Адольф и Паула должны были бы получить в 1911 году по наследству от Иоганны 6400 крон на двоих вместе (включая сумму, ранее полученную Адольфом). Дело между родственниками не решилось полюбовно и рассматривалось в мае 1911 в суде. Возможно, причина этого была лишь в том, что Адольф категорически не желал встречаться и даже переписываться с сестрами, хотя, повторяем, они жили в то время в одном городе. В то же время лишние деньги, взятые им у тетушки в 1908 году, могли не быть прямой акцией, направленной в ущерб Пауле, а просто расчеты между тетей и племянником производились в 1907 или 1908 году исходя из совершенно другой суммарной оценки денег, принадлежавших тетушке, нежели реально оказалось после смерти Иоганны-младшей еще через несколько лет — ниже мы это поясним. Так или иначе, но Адольф признал, что действительно занял у тетушки деньги — указанные 3800 крон — якобы на продолжение учебы;[775] одной только этой суммы, заметим, ему вполне должно было бы хватить минимум на четыре года жизни, т. е. до весны 1912 года, если бы он не злоупотреблял излишними тратами. В качестве своеобразного компромисса, целиком покрывающего возникший иск, Адольф и предложил передать младшей сестре требуемые 600 крон, которые были вычтены из «сиротской пенсии» самого Адольфа, недополученной им от органов социального призрения или страхования — мы не знаем в точности тогдашних порядков. Мазер трактовал это дело совершенно неверным образом, заявив, что Гитлер «по собственной инициативе в мае 1911 г. отказывается от причитающейся ему до апреля 1913 г. ежемесячной пенсии по поводу потери кормильца в размере 25 крон в пользу своей сестры Паулы».[776] Ничего подобного: Паула не получила ничего сверх законно принадлежавших ей указанных 600 крон (составивших объем «сиротской пенсии» самого Адольфа за два года), а «сиротская пенсия» Адольфа продолжала-таки ему начисляться вплоть до 20 апреля 1913 года (когда ему исполнилось 24 года) и ее остаток в размере 819 крон был получен Адольфом по его исковому заявлению из соответствующей государственной кассы 16 мая 1913 года (это — из прямого текста документа, фотокопия которого приведена в немецком издании книги Мазера[777]). Напомним, что и эти деньги Гитлер, возможно, получал путем обмана властей, декларируя свою мнимую учебу в Академии искусств. Повторяем, что при этом Гитлер не виделся с сестрами с самого начала 1908 года, а все заочные контакты с ними ограничились только этим конфликтом. Подведем итоги этой эпопее 1908–1913 годов. Во-первых, можно догадаться, как, почему, а потому и сколько именно по смыслу денег получил Адольф у своей тетушки в 1907 или 1908 году. Похоже на первый взгляд, что они чисто полюбовно договорились о том, что она заранее делится с любимым племянником своим наследством, поскольку не рассчитывала истратить значительную часть своих средств на другие нужды. Формально, очевидно, ему предназначалась половина ее средств, относящихся к нему и к его сестре Пауле. Учитывались ли интересы других племянников — нам не известно, но скорее всего нет (хотя это и не очень важно для общей логики наших расчетов): с ними Иоганна не жила совместно и едва ли испытывала к ним какие-либо чувства; но на на это, конечно, требовались ее определенные завещательные распоряжения: если их не было, то деньги, причитающиеся Адольфу и Пауле, составляли не все наследство, оставшееся от Иоганны-младшей, а только его часть — порядка половины того, чем владела их тетка. 3800 крон заведомо не могли, таким образом, составлять более половины средств, имевшихся у Иоганны-младшей в 1908 году (должна же она была что-то ориентировать и на финансирование своей собственной продолжающейся жизни и на неизбежные похороны), а потому она располагала тогда не менее 7600 крон, почти наверняка — суммой более значительного размера, может быть даже — примерно вдвое большей, если при наследовании после ее смерти учитывались интересы и Терезии с ее потомками. Иоганна, понятно, сохранила расписку племянника — порядок есть порядок, а такая сумма — не шутка! Расписка позволяла позднее и переиграть все это дело, но потребности в этом у тетушки, очевидно, не возникло. Но потребность в пересмотре дела возникла у сестер Гитлера в 1911 году, поскольку после завершения похорон тетушки наличные капиталы последней, относящиеся к Адольфу и Пауле совместно, сократились, как легко подсчитать, исходя из итоговых решений, до 2600 крон (плюс 3800, переданных ранее Адольфу) — отсюда и претензии Паулы к Адольфу в размере 600 крон. Брату и сестре досталось, таким образом, в конечном итоге по 3200 крон на нос из наследства их тетки. Во-вторых, не известны в точности источники капиталов самой Иоганны-младшей. Иоганна должна была иметь и собственные средства: наверняка родители Гитлера должны были что-то платить ей за ее домашнюю службу — хотя бы символически; если бы она откладывала при этом лишь по пять крон (или ранее — по 2,5 гульдена) в месяц, то за двадцать лет (с 1888 по 1908 год) и то должно было набежать около 1200 крон — да еще и за счет процентов на эти накапливающиеся деньги, безусловно откладываемые в банк, эта сумма могла примерно удвоиться! Кроме этого, как упоминалось, она должна была унаследовать какие-то деньги от умершей в 1903 году (как мы полагаем — не без помощи Гитлера!) своей тетушки Вальбурги Роммедер.[778] Мазер почему-то совершенно проигнорировал при этом наследство, оставленное самой бабушкой Гитлера Иоганной-старшей, о котором мы уже упоминали. Иоганна-младшая могла иметь еще иные деньги, с которыми она явилась в семейство Гитлеров уже в 1888 году — ниже мы это поясним. Заметим, в-третьих, что во время всей этой семейной свары 1911 года вроде бы не рассматривался вопрос о том, кто кому (Адольф Пауле или Паула Адольфу) оказывался должен деньги из наследства их родителей — стороны, следовательно, были вполне удовлетворены этой частью происшедшего раздела. От отца им, напоминаем, к моменту смерти матери оставалось, как минимум, по 652 кроны, вырученные за продажу дома в Леондинге и отложенные в неотчуждаемое наследство до их совершеннолетия. На них еще должны были нарасти проценты с лета 1905 года. Этого, в частности, должно было бы хватить Адольфу еще почти на год безбедного существования. Официальное наследство, оставшееся после Клары, не должно было быть меньшим, как утверждает Мазер, чем после ее сестры Иоганны.[779] С этим можно согласиться с известной натяжкой, поскольку Иоганна, в отличие от Клары, действительно не имела на протяжении всей жизни никакой крупной собственности и никаких доходов от ее реализации. Однако деньги на лечение (которые тратились, конечно, и на ту, и на другую из умерших сестер) и прочие траты, происходившие еще при их жизни, вносят полную неопределенность в такие расчеты. Может быть, Гитлер особенно и не врал, утверждая, что «средства, которые остались после отца, были быстро израсходованы». Однако, если иметь в виду хотя бы сумму, полученную за дом в Леондинге, проданный в 1905 году (у Клары, напоминаем, осталось тогда пять с половиной тысяч крон — без учета отложенного тогда же наследства детей), такое заявление выглядит не слишком правдоподобным! К тому же средства матери включали и другие деньги, полученные ею уже после смерти Алоиза: упоминавшееся наследство от ее родителей, в том числе через мать — такие же деньги от тетушки Вальбурги, какие достались и ее сестре. Все это время Клара, напоминаем, получала и немаленькую пенсию. В определенном смысле упомянутые 3800 крон, как настаивает Мазер, могут быть ориентиром и в отношении наследства, доставшегося Адольфу непосредственно от матери. В-четвертых, расценка частей, доставшихся каждой из сестер (Кларе и Иоганне) из наследства Вальбурги, все-таки заведомо выше опрометчиво названной Мазером суммы — 3800 крон. Мазер, как следует из многочисленных приведенных выше примеров, в бухгалтеры не годился! Исходя из нашей минимальной оценки капитала Иоганны-младшей в 1908 году в 7600 крон, ориентированных на наследство Адольфа и Паулы, а также из предположения, что часть ее средств могла (а может быть — не могла) отойти к ее сестре Терезии, можно полагать (с необходимостью вычета иных источников доходов Иоганны-младшей), что всем трем сестрам (Кларе, Иоганне и Терезии) досталась от их матери Иоганны-старшей и от тетушки Вальбурги общая сумма порядка 15-20-25-30 тысяч крон — при различных реальных вариантах того, во что конкретно могли воплощаться имеющиеся у нас неполные исходные данные. Из этих денег, некогда принадлежавших двум старшим дочерям Иоганна Непомука, после их смерти и смерти двух старших дочерей Иоганны-старшей (все эти смерти пришлись на очень ограниченный промежуток времени) порядка 5-7-9-12 тысяч крон (при разных возможных вариантах дележки наследства между представителями уже следующей генерации) становилось вполне законным наследством самого Адольфа Гитлера; ровно столько же (хотя нам и не известно, сколько же именно) причиталось и его сестре Пауле — и это были деньги помимо тех, что достались им от их отца Алоиза — непосредственно напрямую после его смерти и позднее после смерти их матери Клары. Поэтому было бы крайне неудивительно, если бы Адольф Гитлер проявил особую заботу о таком наследстве от родственников матери еще в 1903 году. И оказалось не удивительным, что он проявлял об этом заботу в 1906, 1907 и в 1908 годах! В-пятых, стало ясно, что Адольф уезжал в феврале 1908 года из Линца в Вену как минимум с 3800 крон в кармане, полученными им от тетушки Иоганны. А расписка, сохранившаяся у тетушки (он, очевидно, имел ее копию), играла для него еще большую роль, чем даже для нее. Понятно, что эти деньги Гитлер не только тратил в свое удовольствие, но, кроме того, они обеспечивали ему отмывку и гораздо больших сумм, которые он мог оправдывать все той же тетушкиной подачкой. Эти суммы могли быть самого разнообразного происхождения: нелегальные деньги, доставшиеся ему от отца и от матери, и часть клада Иоганна Непомука. Ясно, в-шестых, что имеющихся у него денег было заведомо так много, что Адольф мог практически не обращать внимания на поступления своей «сиротской пенсии» (в принципе способной регулярно обеспечивать минимальные условия выживания), пока сначала не понадобилось рассчитаться с Паулой, а затем вообще уехать из Австро-Венгрии. Простейшие подсчеты показывают, что его «сиротская пенсия», доставшаяся частично Пауле (600 крон) и частично ему самому (819 крон), фактически не получалась им с 1 августа 1908 года (а до того он, следовательно, получал ее) и накапливалась вплоть до 20 апреля 1913 года (по 25 крон за каждый месяц и 19 крон — за неполный апрель 1913). Общий вывод: денег у Гитлера в венский период было предостаточно — даже вполне легальных, полученных по наследству от всех его упоминавшихся родственников, умерших в 1902–1907 годах и даже в 1911 году. С учетом неизвестности того, сколько же было потрачено за последние два года болезни Клары, оставшаяся ее сыну сумма всех легальных накоплений лежала в широких ориентировочных пределах — от четырех с половиной тысяч крон минимум (считая, что непосредственно от матери Адольфу ничего не досталось!) и до почти пятнадцати тысяч крон максимум! Понятно, что все это не имеет никакого отношения к исчисленным оценкам в 80-100 крон в месяц, полученным Етцингером и по сей день воспринимаемым всерьез всеми биографами Гитлера! Да в первые месяцы пребывания в Вене Гитлер мог тратить в пять или даже в десять раз больше — и не обеднеть окончательно! Заметим при этом, что прожиточный минимум находился тогда на уровне нескольких десятков крон в месяц, и если и превышал начисляемую «сиротскую пенсию», то ненамного; например на оплату жилья, снимаемого Гитлером, уходило лишь порядка 10 крон в месяц![780] Все это явилось добротным результатом всей политики Гитлера в отношении получения наследств, упорно проводимой им в предшествующие годы. Только этих сумм, даже не считая нелегальных средств, должно было бы с лихвой хватить Гитлеру до самого начала Первой Мировой войны, чего он, конечно, не мог еще знать сам, уезжая в Вену. Отметим, что все эти легальные суммы практически полезно могли были быть израсходованы лишь до конца Первой Мировой войны, точнее — до снижения накала революционных потрясений в 1920 году, потому что все оставшиеся после того финансы были съедены нараставшей инфляцией. Позднее Гитлер мог с чистым сердцем начисто отрицать наличие у себя каких-либо капиталов, не опасаясь того, что они могут быть обнаружены налоговыми службами при возможных официальных расследованиях — их действительно фактически не было и не могло быть. Колоссальным счастьем для него должно было оказаться то, что он не успел обратить в законно имевшие хождение деньги значительную часть доставшегося ему клада Иоганна Непомука — иначе потерял бы и ее! Тем более непонятными становятся истории, когда он действительно оказывался в бедственном положении значительно ранее не только конца, но и начала Первой Мировой войны!.. Остается при этом порадоваться за Иоганну-младшую: ее-то Гитлер, по крайней мере, не убивал! Вот только интересно, а чья же это заслуга: не самой ли горбатой тетушки, вовремя все сообразившей и выкупившей свою жизнь у племянника? Но задавшись такой гипотезой почти всерьез, приходится спросить: когда же именно Адольф Гитлер получил от нее ее деньги (точная дата расписки нам не известна)? Почему же притом Иоганна, если она действительно что-то подозревала, не приняла никаких мер по спасению своей сестры Клары и вовсе отсутствовала в семейной квартире ко времени ее смерти? И вообще почему не Адольф, которого тетушка могла подозревать в преступлениях, а следовательно — и шантажировать его этим, а сама тетушка выглядит во всей данной истории типичной жертвой шантажа? Ведь вовсе не принято было делиться наследством с наследниками задолго до своей смерти — и ведь 44-летняя в 1907 году Иоганна никак не должна была собираться умирать в скорейшем времени! И заемом эти деньги никак нельзя посчитать: Гитлер явно не собирался возвращать эти деньги, а она — требовать их назад! Задавшись подобными вопросами и попытавшись ответить на них, мы и получаем возможность прояснить некоторые таинственные события, происшедшие отчасти еще до рождения Адольфа Гитлера. Начнем с повторения скупых подробностей, известных нам о жизни Иоганны-Пёльцль-младшей. Она родилась в 1863 году в Шпитале и была младше своей сестры Клары на три года. В детстве с Иоганной произошло какое-то несчастье, в результате которого она оказалась горбатой. Такое случается обычно в перид интенсивного роста детей в результате тяжелых травм позвоночника. Типичные несчастные случаи подобного рода с детьми — падение с лестницы, с дерева, попадание под повозку и т. д. Что произошло в данном случае — нам совершенно неизвестно. Но если в данном несчастном случае была хоть какая-то доля злого умысла или преступной неосторожности взрослых, то мы без труда можем указать на самого жестокого и коварного человека в тогдашнем окружении данного ребенка: это, конечно же, все тот же Иоганн Непомук! Причем сам пострадавший ребенок мог по малости лет не понять и не запомнить этой вины взрослых, но более зрелым свидетелям это могло быть более понятно. Клара (и это является совершенно ничем не обоснованным предположением с нашей стороны) вполне могла быть таким свидетелем. Она могла быть даже единственным свидетелем данного несчастного случая, не сообщивщим никаких подробностей взрослым — под угрозой деда или просто опасаясь его. Но и такое предположение вовсе не обязательно: Клара могла просто слышать разговоры взрослых на эту тему, которые не говорились при пострадавшем ребенке. Вина конкретного подозреваемого взрослого наверняка была не вопиющей (как и все прочее, что совершалось им в сфере убийств и провокаций), и подобными разговорами дело, очевидно, и ограничилось. Клара, так или иначе, могла приобрести колоссальный козырь спустя многие годы, раскрыв глаза сестре на предположенного нами виновника ее увечья! Понятно, насколько Кларе оказался необходим такой козырь тогда, когда она, как мы предполагали выше, задалась целью в 1888 году убить самого Иоганна Непомука! Клара владела методиками использования мышьяка, но ей был нужен исполнитель, имевший постоянный допуск к пище Иоганна Непомука. Сестра Иоганна, которой были раскрыты глаза на причины ее увечья (можно было бы и что-нибудь присочинить вполне правдоподобное на эту тему!) и на причины смертей детей Клары, становилась предельно мотивированным соучастником справедливого возмездия! Такая гипотеза устраняет все неясности в отношении и мотивов, и возможностей убийства Иоганна Непомука, осуществленного его родственниками! Совершенно естественным выглядит после этого и немедленный окончательный отъезд Иоганны из Шпиталя и ее обустройство в доме Гитлеров — ей, конечно, было морально нелегко оставаться в родных местах. Алоиз, разумеется, никак не мог быть посвящен в мотивы происходящего: терпеть в доме сразу двух отравительниц — это никому не по силам! Отметим, кстати, что деньги самой Иоганны-младшей могли также частично относиться по своему происхождению к тому же Иоганну Непомуку: они могли быть получены ею в порядке благодарности от него самого во время ее ухода за ним больным. Могли они быть и украдены сразу после его смерти — это тоже вполне в духе всего этого семейства! Заметим, однако, что вся только что рассмотренная версия строится на предположении о той последовательности событий, что сначала произошла смерть Иоганна Непомука, а уже только потом — перемещение Иоганны-младшей в семейство Клары и Алоиза Гитлеров. Выше мы упоминали, что точная датировка этого последнего перемещения нам не известна; неизвестно и то, было ли такое перемещение одномоментным или Иоганна поначалу циркулировала между Шпиталем и Браунау. Но тогда возникает совершенно иная версия событий в этом достопочтенном семействе убийц. Не исключено, что в давние времена не Иоганн Непомук, а Клара оказалась сознательным или нечаянным виновником инцидента, искалечившего маленькую Иоганну. И не Клара, а Иоганн Непомук раскрыл глаза увечной девушке на виновницу ее несчастья — в тот момент, когда это понадобилось ему; было ли и это правдой или не совсем, но ни Иоганне, ни тем более нам судить об этом невозможно. Но тогда уже Иоганна-младшая может подозреваться в убийстве детей Клары, к чему ее, несомненно, подучил Иоганн Непомук! А вот подозрения, которые могли складываться у Клары, безусловно посвященной в семейные приемы использования ядов, могли побудить Иоганну-младшую к срочной смене собственной стратегии. Теперь уже у нее оказывался самый сильный мотив для устранения Иоганна Непомука — как единственного свидетеля обдуманности намерений в совершенном ею преступлении! И тогда Иоганн Непомук должен был быть убит этой его сообщницей. От подобных вариантов, повторяем, тошнит и автора этих строк. Единственное оправдание попыток их рассмотрения — это то, что мы продолжаем расследование многолетней, фактически — многовековой деятельности семейства, породившего (уж это-то абсолютно бесспорно!) одного из самых выдающихся убийц в истории человечества! Теперь поставим себя на место именно этого выдающегося убийцы, переехавшего в Шпиталь осенью 1905 года. Адольф Гитлер, во-первых, сам был к этому времени уже вполне профессиональным убийцей-отравителем — и приехал именно с миссией исполнить свои профессиональные функции, о которых он уже знал все и вся. Во-вторых, ему было уже 16 лет — он стал достаточно взрослым для того, чтобы не только, как было раньше, заниматься исключительно своими индивидуальными задачами, но и более внимательно и осмысленно обращать внимание на все остальное. В Шпитале он тогда провел немало месяцев — и мог ко многому присмотреться и прислушаться. Легендарный Иоганн Непомук, умерший еще до рождения Адольфа, наверняка был популярнейшим героем местного фольклора. Задавая целенаправленные вопросы, Адольф мог многое что понять — сообразительности ему было не занимать! Осторожно и ненавязчиво он мог уточнять свои впечатления, полученные в Шпитале, беседуя затем и с собственной матерью, и с тетушкой Иоганной уже в Линце — времени и возможностей у него для этого хватало. В итоге же он вполне ясно и четко мог представить себе все варианты сюжетов возможного убийства Иоганна Непомука! Подобно тому, как мы писали в соответствующем месте, что Алоиз Шикльгрубер должен был больше нас знать о туманных событиях, в которых мы сами не можем разобраться до конца ввиду дефицита информации, теперь мы то же самое должны заявить об Адольфе Гитлере. Он, безусловно, лучше всех нас мог разобраться в таинственных лабиринтах истории собственного семейства — и извлекать из них правильные и полезные для себя выводы! Далее — очевидные результаты. Иоганна-младшая становилась абсолютно доступным объектом для шантажа: изложив ей всю версию ее преступления, на которой он сам остановился, Адольф неотразимо угрожал полным разоблачением: вскрытие могилы Иоганна Непомука (а может быть — и могил умерших старших братьев и сестры Адольфа) обеспечивало очевидные улики отравления, а сведения всех еще живых свидетелей раскрывали всю картину поведения окружавших жертву (или жертвы) лиц. Можно было хоть сразу передавать в суд это дело, якобы ничем не угрожающее самому Адольфу. Его еще живая мать имела в этом деле чистое алиби, ее подстрекательская роль (если она имела место быть) могла быть разоблачена лишь самой Иоганной в первом из рассмотренных нами вариантов, а потому являлась недоказуемой, и поэтому Адольф как будто бы совсем ничем не рисковал: он не ставил под угрозу возможной конфискации даже получение матерью, а следовательно — затем и самим собой, наследства, восходящего к собственности убитого Иоганна Непомука! В другом же рассмотренном варианте, когда виновницей смерти старших детей Клары была сама Иоганна, Клара вообще оказывалась в стороне от убийства ее деда Иоганна Непомука. И то, что в реальной ситуации Иоганна, подвергшаяся шантажу со стороны племянника, не могла обратиться за помощью к его матери — своей старшей сестре, свидетельствует о наибольшей вероятности именно этого последнего варианта! Мы, разумеется, понимаем, что Адольф никогда бы не осуществил свою угрозу, выдвинутую против тетушки — совершенно не в его интересах было бы привлекать внимание властей к отравлениям в этом замечательном семействе! Но тетушка, относившаяся до этого момента к нему как к ребенку, не подозревала об этом! Ей пришлось принять все условия Адольфа! Он ее, естественно, тут же выгнал из дому — ведь нельзя же оставаться жить с отравительницей под одной крышей! Ее он обобрал до нитки, однако постаравшись при этом не задевать интересы своей младшей сестры Паулы, которая не должна была иметь мотивов быть недовольной братом: ей предстояло стать весьма опасной потенциальной свидетельницей, а убивать еще и ее — в то время было явным перебором, это не могло не вызвать очевидных подозрений! Расписка, которую Гитлер отдал тетке, успокаивала ее в исчерпанности конфликта, но мы знаем, что он сам был не менее тетки заинтересован в копии такой расписки! Теперь у Адольфа оказалась полная свобода рук в отношении собственной матери — и ее судьбу следовало решать быстро и энергично: ведь Иоганна-младшая, покинувшая дом к явному удивлению и недоумению старшей сестры, могла набраться смелости все-таки рискнуть поделиться происшедшим с ней, хотя это и было предельно маловероятно, если Иоганна была замешана в убийстве ее детей! Но таких контактов Адольф все равно должен был стараться не допускать! Из всего рассмотренного следует достаточно точная привязка изгнания Иоганны из квартиры Гитлеров к узкому интервалу времени: это было после возвращения Гитлера из Вены и незадолго до смерти Клары — от октября (скорее — уже ноября) до середины декабря 1907 года. Вот после смерти Клары многое могло дополнительно дойти до несчастной Иоганны — но что она могла теперь поделать? Тяжелейшие переживания, как мы знаем, быстро свели ее в могилу! Что ж, можно по-прежнему продолжать считать, что Адольф Гитлер ее не убивал! А внутрисемейные убийства, совершаемые Адольфом, теперь надолго прекратились — ввиду отсутствия в них целесообразности! Затем что-то очень серьезное произошло с Гитлером летом 1908 года, когда он в очередной раз посетил Шпиталь, чтобы забрать, как мы полагаем, очередную, вторую по счету, долю похищенного им клада Иоганна Непомука. На это указывают два обстоятельства: во-первых, в следующий раз Адольф решился поехать в Шпиталь лишь через девять лет — приехав в отпуск с фронта, боевым солдатом с Железным крестом на груди; во-вторых, после возвращения из Шпиталя в Вену между ним и Кубицеком произошел страннейший разговор. Кубицек тогда как раз призывался в армию; ему, как имевшему законченное среднее образование и будущему студенту консерватории, полагалось отслужить лишь два месяца — и осенью 1908 он уже вернулся в Вену и продолжил учебу. Так вот, Гитлер горячо уговаривал его не служить в австро-венгерской армии — вместе со славянами и прочими инородцами. Так впервые возник тезис, которым Гитлер позже и оправдывал свое фактическое дезертирство от призыва в Австро-Венгрскую армию, но последующее добровольное вступление в Германскую: «Он не хочет служить в одной армии с чехами и евреями, воевать за габсбургское государство, но всегда готов умереть за Германский рейх»![781] Гитлер немедленно и конкретно предлагал Кубицеку бежать за границу, чтобы поступить на службу в Германскую армию. Понятно, что последний никак не соглашался идти на такую абсолютно бессмысленную комбинацию, ломающую его жизнь и карьеру. На этом они расстались, и Кубицек, вернувшись через два месяца, уже, как считается, не застал Гитлера в их общей квартире; они дружелюбно, но совсем ненадолго встретились в следующий раз лишь через три десятка лет — когда Гитлер пребывал в зените своей власти и славы; в 1938 году Кубицек представил в официальные партийные инстанции свои воспоминания, а в августе 1939 года и произошла единственная (после Вены) встреча Гитлера с Кубицеком.[782] К двум названным странностям примыкает и третья: Ханфштангль, познакомившийся с Гитлером лишь в 1922 году, писал: «Подавленная гомосексуальность Гитлера, возможно, сформировалась тогда, когда он подхватил сифилис в Вене, примерно в 1908 году. С того времени, как мы познакомились, не думаю, что у него были какие-либо нормальные отношения с женщинами».[783] Сам Ханфштангль, как легко понять, не мог быть первоисточником информации о событиях, происходивших с Гитлером в 1908 году — он мог слышать об этом лишь от других. Почему, тем не менее, эти сведения не следует элементарно игнорировать — это мы постараемся объяснить позднее; мы уже обещали рассказать об особой роли Ханфштангля в жизни Гитлера, но собираемся выполнить это обещание лишь в последующих публикациях, поскольку тематика 1922–1923 годов в общем-то выходит за рамки данной книги. Пока что, в свою очередь, сообщим, что в дальнейшем тема сифилиса у Гитлера почти не будет возникать на страницах данной нашей книги: как мы полагаем, проблем такого рода у Гитлера не было вплоть до конца 1918 года, хотя гарантировать истинность подобных заявлений довольно рискованно. Факт тот, что сам Гитлер, который, скорее всего, и был источником данной информации, сообщенной Ханфштанглем, был заинтересован в том, чтобы напустить туману относительно мотивов собственнного необычного поведения в Вене примерно с 1908 года. Это-то и усиливает впечатление странности событий того времени, происходивших с Гитлером. Хорошо известно, что в сентябре 1908 года Гитлер предпринял очередную и последнюю попытку поступления в Академию искусств. Теперь результат оказался еще худшим, чем в прошлом году, когда Гитлер прошел первый тур, но был отсеян во втором. «На этот раз на экзамене по композиции он получает неудовлетворительную оценку. В отличие от 1907 г. он не допускается к конкурсу рисунков».[784] Вслед за этим, повторяем, Гитлер съезжает с квартиры, общей с Кубицеком, — и в течение целого года о его занятиях не имеется абсолютно никаких достоверных сведений; есть данные лишь об адресах, по которым он проживал в Вене.[785] Мазер чисто фантазирует, когда утверждает: «Несмотря на весь свой горький опыт, Гитлер вскоре устраивает свою жизнь как художник, а с 1909 г. занимается порой и писательским трудом. Он рисует и продает свои картины в городе, который потом на протяжении всей жизни больше ненавидит, чем любит».[786] Затем около двух месяцев — не известно и вовсе ничего, пока в декабре 1909 с Гитлером, голодным и издерганным, не знакомится в ночлежке для бездомных такой же по виду бродяга — уже упомянутый Райнхольд Ханиш, сведения, исходящие от которого, позволяют восстановить образ жизни Гитлера уже в последующие месяцы.[787] Так что же случилось с Гитлером летом 1908 года? 4.2. Адольф Гитлер, Гели Раубаль и злейший враг Адольфа Гитлера.Объяснение этого мы начнем издалека — с рассказа Гитлера, запротоколированного в январе 1942 года,[788] о том, почему он прекратил употреблять алкогольные напитки. Это — совершенно замечательная новелла, которую мы приводим почти целиком. Дело, по мнению Мазера, якобы происходило 11 февраля 1905 года[789] — за полгода до того, когда Гитлер окончательно бросил учебу: «Квартирных хозяек студенты называли «мамочками». /…/ После окончания семестра мы всегда устраивали большой праздник. Там было очень весело: мы кутили вовсю. Там-то и произошел единственный случай в моей жизни, когда я перепил. Мы получили свидетельства и решили отпраздновать это дело. «Мамочка», узнав, что все уже позади, была слегка растрогана. Мы потихоньку поехали в один крестьянский трактир и там пили и говорили ужасные вещи. Как все это было в точности, я не помню… мне пришлось потом восстанавливать события. Свидетельство было у меня в кармане. На следующий день меня разбудила молочница, которая… нашла меня на дороге. В таком ужасном состоянии я явился к своей «мамочке». «Боже мой, Адольф, как вы выглядите!» Я вымылся, она подала мне кофе и спросила: «И какое же свидетельство вы получили?» Я полез в карман — свидетельства нет. «Господи! Мне же нужно что-то показать матери!» Я решил: скажу, что показывал ему кому-то в поезде, а тут налетел ветер и вырвал из рук. Но «мамочка» настаивала: «Куда же оно могло пропасть?» — «Наверное, кто-то взял!» — «Ну тогда выход только один: вы немедленно пойдете и попросите выдать дубликат. У вас вообще-то деньги есть?» — «Не осталось». Она дала мне 5 гульденов, и я пошел. Директор заставил долго дожидаться в приемной. Тем временем четыре обрывка моего свидетельства уже доставили в школу. Будучи без памяти, я перепутал его с туалетной бумагой. Это был кошмар. Все, что мне наговорил ректор, я просто не могу передать. Это было ужасно. Я поклялся всеми святыми, что никогда в жизни больше не буду пить. Я получил дубликат… Мне было так стыдно! Когда я вернулся к «мамочке», она спросила: «Ну и что он сказал?» — «Этого я вам не могу сказать, но скажу одно: я никогда в жизни больше не буду пить». Это был такой урок, что я никогда больше не брал в рот спиртного».[790] Этот рассказ содержит выразительные материалы, вполне доступные для классического психоанализа в стиле Фрейда, который, однако, никто по сей день не удосужился произвести. Начнем с последней фразы процитированного текста — пока что безо всякого психоанализа. Исходя из известных фактов биографии Гитлера ее следует признать абсолютно лживой. С тех пор, как Гитлер осенью 1919 года вызвал жгучий интерес своих соратников по организации национал-социалистического движения своими яркими и нетрадиционными публичными выступлениями, в его жизни оставалось еще много места странным тайнам и необъяснимым происшествиям, но весь его образ жизни в целом просматривался его соратниками насквозь. Так вот, Гитлер вовсе не был трезвенником — по крайней мере до 1931 года. Уже многократно цитированный Эрнст Ханфштангль, познакомившийся с Гитлером, повторяем, в 1922 году, не только регулярно лицезрел тогда Гитлера с кружкой пива в руках[791] (в том числе и в разгар Мюнхенского путча[792]), но и непритворно ужасался манерой Гитлера насыпать сахарную пудру в налитый ему бокал благородного вина.[793] Сам Гитлер, ставший-таки позднее трезвенником, с осуждением вспоминал пору начала своей политической деятельности (т. е. 1919–1923 годы), когда, например, «на одном собрании я выпил четыре кружки пива».[794] Четыре кружки мюнхенского (не известно, правда, какого калибра) — это в любом варианте довольно серьезно (очень рекомендуем читателям попробовать!). Тем не менее никто не видел Гитлера пьяным — не только с 1919 года, но и с 1914-го — он явно сторонился этого рода развлечения, характерного для фронтовиков — бывших и настоящих. Таким образом, его переход к абсолютной трезвенности имел по меньшей мере два этапа, инициированных сначала неким таинственным событием в довоенной юности, а потом и вполне известным происшествием, случившимся в 1931 году: окончательный переход Гитлера к вегетарианству и безалкогольной трезвости принято связывать со смертью его племянницы (дочери его старшей сестры Ангелы) — тоже Ангелы (Гели) Раубаль, хотя, вроде бы, достоверные свидетельства об употреблении Гитлером мяса и алкоголя прекратились еще до этого, хотя и не известно точно когда — сведения об этом весьма многочисленны и противоречивы. «Красной нитью через все биографии Гитлера проходит тот факт, что после смерти племянницы фюрер стал вегетарианцем, перестал употреблять алкогольные напитки и бросил курить».[795] «Он хотел застрелиться, замкнулся в себе, впал в тяжелую депрессию, мучил себя упреками и никогда больше не ел мяса и животных жиров».[796] «С 1931 г. он становится последовательным вегетарианцем. Если раньше он ел довольно много мяса, пил пиво, не боялся физических нагрузок, /…/ то теперь начисто отказывается от животных белков и жиров»,[797] но и последнее не совсем верно: Гитлер употреблял яичницу даже в апреле 1945.[798] Современный историк и писатель, Анна Мария Зигмунд, пытается оспорить факт окончательного перелома, относящегося к 1931 году, с помощью такого, например, свидетельства: «Отто Лейбольд, директор тюрьмы в Ландсберге, где Гитлер отбывал срок наказания /…/ за попытку государственного переворота, еще в 1924 году писал в докладе в прокуратуру Мюнхена о своем известном узнике: «Он — человек без личного тщеславия, доволен тюремным довольствием, не курит и не пьет».»[799] Здесь, конечно, наибольшее доверие вызывает та часть заявления, в которой утверждается, что Гитлер — человек без личного тщеславия! Примерно так же Зигмунд отзывается и о курении Гитлера, почему-то не понимая, что определенным образом концентрирует внимание при этом на все том же 1931 годе: «Курить Гитлер, по его собственным словам, бросил еще в годы юности в Вене из соображений экономии. В 1931 году он развил настоящую антитабачную кампанию среди своих подчиненных. Он не упускал возможности высказаться о вреде никотина. В его присутствии курить никому не разрешалось».[800] И об употреблении мяса — почти то же самое: «Мясо фюрер перестал практически полностью употреблять (исключение составляло традиционное австрийское блюдо — печеночные клецки) уже достаточно задолго до того, как его племянница приехала в Мюнхен. Многочисленные современники независимо друг от друга свидетельствуют о том, что Гитлер в мюнхенском ресторане, где часто собирались его соратники еще в 1922/23 годах, заказывал только вегетарианские блюда, а мясные блюда называл не иначе, как «пожирание трупов»»;[801] последние слова — необычайно выразительны! Но действительно ли они произносились в 1922–1923 годах? Свидетельства, относящиеся к тому же тюремному заключению 1924 года, говорят совсем о другом: «Камера Гитлера напоминала деликатесную лавку: во всех углах лежали окорока, шпик, колбасы, шоколадные конфеты и пироги. В результате тюремное заключение было единственным периодом в его жизни, когда он набрал лишний вес»[802] — это ведь целое кладбище трупов, предназначенных для пожирания! А вот что, якобы, рассказывал сам Гитлер: «я спросила Гитлера: «Вы всегда были вегетарианцем?» Он покачал головой и, колеблясь, рассказал, что не может есть мяса после тяжелого шока, который он испытал. /…/ Гитлер продолжал: «Я слишком любил Гели — мою племянницу, я думал, что не смогу без нее жить. Когда я потерял ее, то ничего не ел в течение нескольких дней, и с тех пор мой желудок противится любому мясу»»[803] — это свидетельство одной из знаменитейших женщин Третьего Рейха, кинорежиссера-документалиста Лени Рифеншталь. Коль скоро происшествие 1931 года достаточно хорошо расписано, с него и продолжим наш анализ. Гели Раубаль, напоминаем, родилась в Линце 4 июня 1908 года. Племянница познакомилась со своим прославившимся дядюшкой в 1924 году, навещая его (вместе с матерью и братом) во время упоминавшегося тюремного заключения Гитлера и его приближенных. С 1925 года они общаются достаточно интенсивно. Затем с 1927 или 1928 года она вместе с матерью, ставшей домопровительницей резиденции Гитлера в Оберзальцберге (приобретенной затем, напоминаем, на имя этой матери), поселилась там с Гитлером под одной крышей. С 1929 года она жила и в упомянутой роскошной квартире Гитлера в Мюнхене, имея там собственную комнату. Дядюшку с племянницей связали явно не только обычные родственные отношения: «Гели, как отмечали все близкие к Гитлеру люди, была частью его жизни».[804] Гели довольно часто сопровождала Гитлера на различных мероприятиях, а он проявил неожиданное негодование, когда узнал о том, что в Рождество 1927 года произошла тайная помолвка Гели с лучшим другом фюрера, его шофером и телохранителем (и сокамерником в 1924 году) Эмилем Морисом.[805] На этом дружба Гитлера с его другом скандально прекратилась, а помолвка через полгода была расторгнута.[806] «Свита Гитлера сделала из этого свои выводы. Вскоре было сформировано мнение, что фюрер сам влюблен в свою племянницу и не допускает мысли о том, что она может достаться кому-либо еще. А подруга Гели Генриетта[807] понимала ситуацию так: «Для Гитлера Гели была идеалом женщины. Красивая, стройная, неиспорченная. Но его забота сводилась к ограничению и принуждению».»[808] К осени 1931 года отношения между дядей и племянницей достигли критической остроты, закончившись ее гибелью: «в его мюнхенской квартире уходит из жизни его любимая женщина Гели Раубаль». Гитлер «страдает от тяжелой депрессии. /…/ Рудольф Гесс в последний момент хватает его за руку и вырывает из нее пистолет, которым он хочет застрелиться».[809] «После смерти Гели у него пропала способность понимать других людей и поддерживать с ними глубокие душевные контакты. С тех пор он лишь в ограниченной мере был способен общаться с другими людьми, за исключением отношений с Евой Браун. Его всегда окружало одиночество».[810] Все это звучит несколько преувеличенно. Гестапо-Мюллер, познакомившийся лично с Гитлером существенно позднее 1931 года, свидетельствует совершенно об обратном в отношении способности Гитлера понимать других людей; мы и сами имели возможность в этом убедиться, рассматривая подробности смещения Геринга в апреле 1945. Тем не менее одиночество Гитлера, усилившееся с 1931 года, — это, похоже, несомненный факт. Причины смерти Гели до сих пор не ясны. На эту тему ходили разнообразные слухи: Гели якобы собиралась уехать в Вену — либо учиться там пению, либо за кого-то (не за Гитлера!) выйти замуж.[811] В то время Гели брала уроки пения. Учителем ее был «Ганс Штрек, адъютант Людендорфа в дни путча [1923 года] /…/. У Штрека было довольно много учеников и студия». За 12 уроков в месяц Штреку платили 100 марок. «Гели — это самый ленивый ученик, которого я когда-либо видел, — жаловался он. — В половине случаев она звонит, чтобы сказать, что не может прийти, а когда приходит, то учит очень мало»; «главное впечатление на Штрека произвела безграничная терпимость Гитлера к бессмысленной трате денег».[812] Патрик Гитлер (сын старшего брата Гитлера — Алоиза-младшего) утверждал позднее, что она была беременна от Гитлера,[813] а его мать, «Бриджит Гитлер — первая жена /…/ брата Гитлера Алоиса, /…/ писала, что Гитлер приказал СС убить Гели, которя была беременна от одного еврейского студента и которая, как предполагалось, собиралась в Вене избавиться от ребенка»[814] — но эти родственники даже не были знакомы с Гели при ее жизни! Мать Гели «Ангела Раубал редко высказывалась на эту печальную тему. Но американской секретной службе она не могла отказать в беседе на эту тему[815]. Во время допроса, который вела СИС в мае 1945 года в Берхтесгадене, она сказала, что Гели Раубал в сентябре 1931 года собиралась обручиться с виолончелистом из Линца, который был старше ее на 16 лет. Гитлер запретил ей общаться с ним, но мать поддерживала Гели. Новая разлука с любимым мужчиной не казалась Ангеле Раубал достаточной причиной для самоубийства. /…/ Она сказала: «Я не могу понять почему она сделала это. Возможно, это был несчастный случай, и Ангела убила себя, играя с пистолетом, который она взяла у него [Адольфа Гитлера]».»[816] Так или иначе, но имеющиеся свидетельства описывают нижеследующую картину вроде бы загадочного происшествия. «Конец лета 1931 года Гели Раубал провела в Оберзальцберге. 8 сентября она вместе с братом Лео, который работал учителем, отправилась в поход на три дня в горы Берхтесгадена. Казалось, что у нее прекрасное настроение /…/. 16 сентября 1931 года Гели по настоятельному требованию дяди /…/ вернулась в Мюнхен. Прислуга в квартире Гитлера также не заметила изменений в Гели — не было ни малейшего признака надвигающейся трагедии».[817] «Месяцы спустя я узнал от Штрека[818], что Гели звонила ему за пару дней до смерти и сказала, что больше не будет брать у него уроки в сентябре, поскольку уезжает в Вену, и сообщит ему, когда вернется»[819] — свидетельство Ханфштангля. Однако утром 18 сентября 1931 года, за завтраком в упомянутой мюнхенской квартире Гитлера, между ним и племянницей возник жаркий скандал — не известно в точности, по какому поводу. Прислуга Гитлера (часть жила в этой же квартире, а другие были приходящими) была «чрезвычайно лояльной к своему работодателю».[820] Это усиленно поддерживалось самим Гитлером, старавшимся сохранять со слугами, от которых зависели его комфорт и безопасность, должные отношения — все они оказывались верны ему до самого конца собственных жизней. Это типично для разумных больших начальников: автор этих строк общался с охранниками и прислугой Сталина и Берии, а также с личным шофером моего собственного деда[821] в двадцатые годы — все они были в восторге от своих шефов! В то же время к Гели слуги относились явно без симпатии: «Примечательно, что в доме Гитлера все слуги называли Гели между собой пренебрежительно по фамилии «Раубал», что позволяет сделать вывод о подспудной враждебности, царящей в доме, тогда как в то время было принято употреблять более вежливое обращение как, например, «фройлейн Гели» или «фройлейн Раубал».»[822] Однако журналисты и полиция узнали о скандале утром 18 сентября именно от слуг, хотя сведения об этом не попали (по-видимому — по просьбе тех же слуг) в полицейские протоколы. Поэтому не ясно, кто же из них протек на эту тему — и не ясно, насколько случайно это произошло. Так или иначе, но Гитлеру пришлось отвечать об этом на следующий день: «Моя племянница /…/ начала брать уроки пения /…/ и потому собиралась продолжать обучение у одного профессора в Вене. Я согласился с этим при условии, что ее мать, которая сейчас живет в Берхтесгадене, поедет с ней в Вену. Но так как она была не согласна с этим, то я сказал, что я против ее планов отправиться в Вену. Вероятно, это рассердило ее».[823] Таким образом, «Гитлер признался, что в день самоубийства Гели у них случился спор по поводу разногласий в профессиональных планах Гели. Примечательно, что дядя, если верить его данным, стремился диктовать своей племяннице, которой уже исполнилось 23 года, с кем она может поехать в Вену и может ли она вообще туда ехать. Фраза [Гитлера] «она попрощалась со мной совершенно спокойно» позволяет предположить, что в доме Гитлера не всегда было спокойно».[824] Заметим, что эти сведения, попавшие в печать, должны были обезоружить вполне возможного заочного свидетеля — жениха Гели (если он все же существовал!), у которого должны были быть собственные взгляды на происшедшее, но заявления Гитлера достаточно корректны и обтекаемы и не противоречат всему характеру отношений между дядей и племянницей. «Около 15 часов [18 сентября] Адольф Гитлер, его водитель Юлиус Шрек и фотограф Гоффман отправились в путь — первый участок пути предстояло проделать до Нюрнберга»;[825] далее они должны были ехать в сторону Гамбурга, где 24 сентября должен был состояться запланированный митинг — важное событие в очередной текущей политической кампании. Заметим, что в связи с последовавшей смертью Гели, Гитлер, очевидно, не смог выполнить все свои планы на ближайшие дни, но в Гамбург он все же попал, как и собирался, 24 сентября. Выезжать же туда из Мюнхена прямо 18 сентября было явно рановато — по дороге можно было вполне успеть навестить последовательно Варшаву, Париж и Копенгаген! Но никто не выяснял, что же конкретно планировал Гитлер делать между 18 и 24 сентября и планировал ли что-либо вообще. «О том, как Гитлер попрощался с племянницей, сохранилось лишь сомнительное свидетельство Гоффмана /…/. Если верить ему, Гели Раубал в тот день подошла к лестнице, помахала рукой и радостно прокричала: «До свидания, дядя Алеф! До свидания, господин Гоффман!» /…/ В любом случае у племянницы не было повода быть радостной при прощании с дядей, который только что поставил крест на ее планах. Слова о том, что Гели радостно прощалась с дядей и его спутниками, были сказаны уже после войны фотографом Гоффманом, который стремился пресечь курсирующие слухи о том, что Гитлер был убийцей своей племянницы».[826] На следующий день служанка Мария Рейхерт,[827] живущая в этой же квартире, давала такие показания полиции — обратите внимание на то, что начальный момент, о котором рассказывается, практически совпадает со временем, когда Гитлер покинул квартиру: «18.9.1931 около 15 часов я услышала, как дверь в комнату Раубал закрылась. Я была в другой комнате и поэтому не могу сказать, сама ли Раубал закрылась в своей комнате. Спустя некоторое время до меня донесся легкий шум из комнаты Раубал, как будто что-то упало на пол. Я не придала этому особенного значения. Около 22 часов я пошла расстелить постель в комнате Раубал, но оказалось, что ее дверь все еще заперта. Я постучала, но ответа не последовало, и я подумала, что Раубал вышла из квартиры».[828] Последняя деталь также очень интересна: служанку не смутило, что она не слышала, что Гели выходила из квартиры; это, очевидно, нисколько не противоречило имевшимся условиям слышимости из ее, Марии Рейхерт, комнаты. Но таким же образом она могла и не слышать, когда же именно покинул квартиру Гитлер — с Хоффманом вместе или без него. Главная из служанок, экономка Анни Винтер, дала такие показания: «19.9.1931 около 15 часов я видела, как Раубал в сильном волнении вошла в комнату Гитлера, а затем поспешно вернулась в свою комнату. Это показалось мне странным. Сейчас я полагаю, что тогда она взяла из комнаты Гитлера пистолет»[829] — в начале этого сообщения — странная описка или опечатка: неверно указано число, когда это происходило. Если так было и в исходном протоколе, то это необъяснимо и лишено конкретного смысла, но косвенным образом может указывать на сильное волнение свидетельницы (наверное — и следователя!) и на то, что она могла при этом говорить неправду. Легко сообразить, что такое показание, которое, скорее всего, никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть, возникло из желания экономки как-то объяснить попадание пистолета Гитлера в комнату Гели. Но и без этого показания следствие могло допустить такой вариант чисто логическим путем. «Достоверно известно только, что семья Винтер /…/ владела собственной квартирой, и после уборки квартиры Гитлера они отправлялись к себе домой. И в эту пятницу фрау Винтер в 17 часов покинула место работы. Гели оставалась в квартире вместе с фрау Рейхерт, которая продолжала жить в квартире своего работодателя»;[830] ниже упоминается и муж последней, вроде бы находившийся там же. То, что никто из слуг не слышал звука выстрела, не удивило никого ни в 1931 году, ни позднее — и это было вполне естественным. «Возможно, выстрел остался незамеченным среди общего шума на улицах Мюнхена в преддверии знаменитого Октоберфеста»[831] — писал Ханфштангль. На самом же деле человеческое тело, к мягким частям которого плотно приставлено, практически — сильно придавлено дуло пистолета (как выяснилось и в данном случае) играет роль того же глушителя. Зигмунд изложила это достаточно четко во фразе, абсолютно нелепой с точки зрения грамматики (по вине ее самой, переводчика или редактора), но вполне понятной по смыслу: «На самом деле шум выстрела малокалиберного пистолета, приставленного плотно к телу, Мария Рейхерт и ее муж, комната которых находилась в самом конце просторного коридора, мог быть приглушенным».[832] Продолжение истории происходило на следующее утро. Показания Марии Рейхерт: «Сегодня утром в 9 часов утра я вновь постучала в двери, но вновь никто не ответил. Это показалось мне подозрительным, и поэтому я рассказала все фрау Винтер. Она позвола своего мужа, который затем в нашем присутствии открыл дверь, запертую изнутри. По какой причине Раубал совершила самоубийство, я сказать не могу».[833] Показания Георга Винтера, мужа Анни: «Я работаю у Гитлера домоправителем. Сегодня в 9.30 утра моя жена, которой показалось странным, что Раубал не вышла к завтраку, сообщила мне, что дверь ее комнаты заперта, а пистолета Гитлера, который хранился в соседней комнате в открытом шкафу, нет на месте. Я несколько раз постучался в двери ее комнаты, но ответа не последовало. Так как мне все это показалось подозрительным, то в 10 часов я открыл запертую дверь при помощи отвертки. Дверь была заперта изнутри, и ключ все еще торчал в замочной скважине. Когда я открывал дверь, при этом присутствовали моя жена, фрау Рейхерт и Анна Кирмайр. Открыв дверь, я вошел в комнату и нашел Раубал лежащей на полу. Она была мертва. Она застрелилась. Причину, по которой она это сделала, я назвать не могу».[834] Тогда была вызвана полиция и сообщено по телефону в «Коричневый дом» — штаб-квартиру нацистов в Мюнхене. Полицейский протокол: «Труп лежал в комнате, в которой есть только одна входная дверь и одно окно, выходящее на Принцрегентплатц, лицом к полу перед софой, на которой находился пистолет марки «Вальтер» калибра 6,35 мм. Полицейский врач доктор Мюллер[835] установил, что смерть произошла в результате выстрела в легкое и что трупное окоченение началось уже много часов назад. Выстрел был произведен с близкого расстояния, входное отверстие расположено в области выреза на платье, причем дуло пистолета было прижато непосредственно к коже, пуля вошла, не задев сердца; пуля осталась в теле, но прощупывается под кожей немного выше левого бедра. В комнате Ангелы Раубал не было найдено ни прощального письма, ни какого-либо другого письменного документа с упоминанием самоубийства. На столе было обнаружено только начатое письмо к одной подруге в Вену, в котором не говорится ничего о тягостных жизненных обстоятельствах».[836] Картина ясная: либо классическое самоубийство (но нет ни предсмертной записки, ни каких-либо иных типичных атрибутов самоубийства!), либо — убийство в запертой комнате: любимейший сюжет авторов детективных произведений! Ниже нам предстоит в этом впервые достоверно разобраться! Дознание, таким образом, происходило около 11 часов следующего дня, если не позднее. Никакая экспертиза посмертного состояния тела не могла, конечно, при таких условиях дать четкий ответ на вопрос, которым мы задаемся по собственной инициативе: произошла ли смерть до 15 часов накануне или вскоре после 17-ти часов, как в конце концов было заявлено экспертами; к этому мы еще будем возвращаться. Но никакая серьезная экспертиза по существу и не производилась: версия о самоубийстве никак не перепроверялась; было принято даже решение об излишности вскрытия тела — и оно не было сделано. Причем директивы об этом явно проистекали с самого верха — от министра юстиции Баварии Гюртнера, вроде бы тогда вовсе не нациста. Франц Гюртнер (1881–1941) получил юридическое образование и начал службу в органах юстиции еще до Первой Мировой войны, в войну командовал батальоном немецких экспедиционных войск в Палестине. С 1919 года — член Баварской партии центра, позже — Германской национальной народной партии. В 1922–1932 — министр юстиции Баварии.[837] «После самоубийства Гели многие вспомнили, что именно Гюртнер распорядился провести процесс о государственной измене против Гитлера в 1923 году в Мюнхене, а не в Лейпциге, где обвиняемому грозила бы за это смертная казнь».[838] Что там утверждал фон Грэфе еще в 1926 году о связях Гитлера с баварским правительством?.. В июне 1932 года Гюртнер стал общегерманским министром юстиции в правительстве фон Папена, а с января 1933 сохранял этот пост вплоть до своей собственной кончины, происшедшей в январе 1941. В 1937 году он вступил в НСДАП — и соответствующим образом занимался модернизацией германских законов.[839] «Скоропостижная смерть Г[юртнера] дала жизнь версии о его насильственной смерти как юриста старой школы, не соответствующего планам нацистов»[840] — а может быть, заметим мы, забегая в события, уже выходящие за рамки данной книги, дело было тогда совсем в другом! На нацистской же стороне события 19 сентября 1931 разворачивались следующим образом: «Когда фрау Винтер по телефону сообщила в Коричневый дом о трагедии, Гесс попытался связаться с Гитлером по телефону в его отеле в Нюрнберге, но тот уже уехал, и служащему отеля пришлось догонять его на такси. Штрек[841] привез его домой с головокружительной скоростью, и когда тот прибыл, то обнаружил в [своей] квартире [Грегора] Штрассера и Шварца[842], которые держали ситуацию под контролем. У Гитлера была истерика, и в тот же день он уехал в дом Мюллера[843], печатника Beobachter[844], на озере Тегерн [— отметьте себе этот географический пункт!]. Надо отметить, что он не остался в Берхтесгадене со своей сводной сестрой[845], потерявшей дочь»[846] — последнее обстоятельство, подчеркнутое Ханфштанглем, психологически очень выразительно! Ханфштангль продолжает: «Всю эту историю, насколько удалось, замяли. /…/ Днем в субботу 19 сентября Бальдур фон Ширах приехал в Коричневый дом из квартиры [Гитлера], чтобы приказать доктору Адольфу Дресслеру в отделе прессы выпустить официальное сообщение о том, что Гитлер находится в глубоком трауре в связи с самоубийством своей племянницы. После чего люди в квартире, должно быть, запаниковали, потому что двадцать пять минут спустя Ширах снова был на телефоне, спрашивая, ушло ли уже это заявление, и говоря, что в нем использованы не те слова. В нем должно было говориться о прискорбном несчастном случае».[847] Ханфштангль рассказывает со слов Геринга о том, что происходило в квартире Гитлера: «Гитлер явно был разгневан на Штрассера за то, что в публикации он сообщил о самоубийстве, и рыдал на шее Геринга от благодарности, когда Герман предложил представить все как несчастный случай. «Теперь я знаю, кто мой настоящий друг», — всхлипывал Гитлер. По-моему, со стороны Геринга это стало чистым бизнесом. Он хотел уничтожить Штрассера, спорящего с ним за благосклонность Гитлера».[848] И действительно, дружбе Гитлера с Грегором Штрассером почти тут же пришел конец. В 1932 году они выступали уже как конкуренты, а в декабре 1932 года окончательно разошлись. 30 июня 1934 года, в «Ночь длинных ножей», отошедший от политической деятельности Штрассер был убит эсэсовцами. До Геринга же, как мы знаем, очередь дошла лишь в апреле 1945 — и расправиться с ним окончательно довелось уже не Гитлеру. Но вернемся снова в сентябрь 1931. Ханфштангль продолжает: версия о несчастном случае запоздала, а в ход пошли вести о самоубийстве — да еще и с намеками на убийство: «было уже поздно. Слово было сказано, и 21 числа в понедельник все оппозиционные газеты вышли с этой новостью. Социалистический ежедневник Munchener Post был наиболее подробен. Большая статья была полна деталей, в ней рассказывалось, что в последнее время Гитлер и его племянница часто спорили друг с другом, что вылилось в ссору за завтраком утром 18 числа. Гели давно говорила о своем желании вернуться в Австрию, где она собиралась выйти замуж. В квартире было найдено неотправленное письмо ее венской подруге, в котором она писала, что надеется скоро уехать. В статье также упоминалось, что, когда обнаружили ее труп, был зафиксирован перелом переносицы, на теле наличествовали и другие признаки насильственного обращения».[849] Официальные власти не могли на это не реагировать: «После статьи в «Мюнхенер пост» от 21 сентября прокуратура Мюнхена провела дополнительное расследование, в ходе которого особое внимание было уделено сломанному носу и повреждениям на теле покончившей с собой девушки. «На лице, особенно на носу, не было установлено никаких повреждений, связанных с кровотечением какого-либо рода. На лице были обнаружены исключительно темные трупные пятна, которые свидетельствовали о том, что Ангела Раубал умерла, лежа лицом к полу, и пролежала в этом положении примерно 17–18 часов[850]. То, что кончик носа слегка был сплющен, является исключительно следствием многочасового лежания лицом на полу. Интенсивность трупных пятен на лице, вероятно, свидетельствует о том что после выстрела в легкое смерть наступила преимущественно от удушья», — уточнил полицейский врач свои первоначальные результаты обследования».[851] Гитлеру понадобилось думать, что же делать дальше: «Два дня спустя в среду [23 сентября]в Volkischer Beobachter на внутреннем развороте было опубликовано опровержение Гитлера всех этих домыслов, в котором он угрожал MunchenerPost судебным преследованием, если та не выйдет с официальным опровержением».[852] Опровержение, конечно, опубликовано не было, но пыл журналистов стал быстро выдыхаться: упоминания о самоубийстве и подозрения об убийстве «исчезли из газет ввиду явного отсутствия каких-либо дополнительных улик».[853] «Мюнхенер Пост» «отмечала, что главными темами статей в Volkischer Beobachter стала смерть нацистского уличного бойца и агитационная кампания, посвященная этому и продолжавшаяся уже несколько дней, в то время как смерть племянницы Гитлера осталась практически без внимания. После этого никаких новых подробностей не сообщалось»[854] — дело заглохло, казалось бы, окончательно, и это было, по-видимому, идеальным исходом для Гитлера. 23 сентября тело Гели было похоронено на Центральном кладбище в Вене «в помпезном склепе».[855] Присутствовали ее мать, брат и сестра, а также младшая сестра Гитлера Паула.[856] «Гиммлер и Рем представляли там Гитлера».[857] Гитлера там не было, как считается, потому, что он, к этому времени человек без гражданства, испытывал затруднения с получением разрешения на въезд в Австрию.[858] Едва ли это соответствует истине: в данном случае, похоже, австрийские власти стояли на гуманистических позициях и разрешили ему посещение кладбища, хотя мы и не знаем точных дат оформления надлежащих документов. Но Гитлер, похоже, сам не поехал в Вену: 24 сентября он, повторяем, как и предполагалось по плану, выступал на том самом митинге в Гамбурге, на который якобы двинулся в путь еще 18 сентября: «На собрании присутствовало 10 000 его сторонников, которые неистовствовали под влиянием его речи».[859] Вот затем, 26 сентября 1931 года, он с разрешения австрийских властей, но в глубокой тайне от публики посетил Вену — и в одиночестве побывал на свежей могиле Гели.[860] Как мы полагаем, тем самым был соблюден ритуал перед ближайшими родственниками. 18 сентября 1932 года, в годовщину смерти Гели, Гитлер, уже германский подданный (с 22 февраля 1932[861]), но «нежелательный иностранец» для австрийских властей, также получил от них соответствующее разрешение и безо всяких публичных аффектаций вновь посетил кладбище в Вене.[862] Тогда и долгие годы после этого никто, почему-то, не обращал внимание на такое обстоятельство: а как вообще самоубийца могла быть похоронена на католическом кладбище с соблюдением католических обрядов? Ведь это же строжайшим образом запрещено по канонам Католической церкви! К этому нам предстоит вернуться. Трагедии Гитлера в связи со смертью его племянницы пытались и тогда, и много позднее придать прямо-таки ритуальный характер. «Согласно высказываниям слуги Гитлера Краузе[863] фюрер каждый год заходил в комнату Гели, чтобы почтить в ней память своей матери. Но Краузе был всем известен как отъявленный лгун!»[864] Тем не менее, Гитлер якобы «запретил посещать комнату Гели в своей мюнхенской квартире на Принцрегентплац, 16, кому бы то ни было, кроме себя и экономки Анни Винтер»[865] — но даже эта романтическая подробность является чистейшим враньем. Просто вскоре после гибели Гели политические события в Германии вступили в решающую фазу: «10.10.1931 г. Г[итлер] был впервые принят президентом П. фон Гинденбургом, ему Г[итлер] не понравился, и встреча завершилась провалом. 11 окт[ября] Г[итлер] принял участие в массовом митинге национальной оппозиции в Бад-Гарцбурге, где также успеха не имел, т. к. фактически отказался вступать в блок с другими правыми объединениями, прежде всего со «Стальным шлемом».»[866] Здесь, отметим, отчетливо проявилось действие депрессии, охватившей Гитлера после смерти Гели, но еще 24 сентября, в Гамбурге, он пребывал на заметном подъеме! В связи со всем этим Гитлер в основном переселился в Берлин — в отель «Кайзерхоф», поближе к месторасположению основных органов власти. Отдыхать же он ездил по-прежнему в Оберзальцберг. Мюнхенская квартира осталась на отлете, и понятно, что обстановка в ней не менялась годами. Не исключено, однако, что появление в ней не очень-то и привлекало Адольфа Гитлера! Тезис Достоевского о том, что убийцу всегда тянет на место преступления, представляется нам самым сомнительным из того, что этот автор насочинял о преступлениях!.. Тем не менее, когда было надо, то и комната Гели использовалась для дела: «Спустя несколько месяцев после трагедии в квартире Гитлера была отпразднована свадьба Генриетты Гоффман с имперским руководителем молодежи Бальдуром фон Ширахом. Для смены нарядов невесте была предоставлена та самая комната, в которой совсем недавно погибла ее подруга».[867] Да и «в завещании Гитлера от 2 мая 1938 года сказано довольно лаконично: «Обстановка комнаты в моей мюнхенской квартире, в которой жила моя племянница Гели Раубал, должна перейти к моей сестре Ангеле».»[868] Правы, по всей видимости, те, кто считали: «Больше всего на свете Гитлер любил самого себя /…/. Он опасался, что трагическая смерть племянницы повредит его политической карьере. /…/ именно это беспокоило его больше всего».[869] Что же касается тех, кого Гитлер любил помимо самого себя, то и среди них Гели занимала далеко не первейшее место. Жизнь Гитлера, прославившегося в двадцатые годы, была заполнена множеством романов с различными женщинами и девицами, отношения ни с одной из которых не приняли тогда прочного и постоянного характера, что косвенным образом подтверждает мнение об этом Ханфштангля, приведенное выше. Факт, однако, состоит в том, что Гитлеру эти романы приносили несомненно положительные эмоции — иначе таких странных романов и вовсе не было бы. Почти одновременно со сближением с племянницей, о котором мы уже рассказали, Гитлер завел роман и с еще более юной девицей. «Мария Йозефа Рейтер, которую в семье называли «Мими», родилась 23 декабря 1909 года в Берхтесгадене. Она была младшим ребенком в семье /…/. Семья относилась к сословию мелких буржуа. Отец Карл — по профессии портной — все свое свободное время проводил в кабачке, рассуждая о большой политике. /…/ он был одним из основателей ячейки СДПГ[870] в Берхтесгадене. Мать /…/ была модисткой и содержала /…/ маленький магазинчик текстильных товаров и одежды /…/».[871] Марии Рейтер «очень нравилась учеба в интернате. Внезапная трагедия в семье нарушила ее учебные планы. У матери Марии обнаружили злокачественную опухоль гортани. /…/ Шестнадцатилетней девушке пришлось примириться со сложившейся ситуацией, полностью посвятив себя домашним делам, уходом за безнадежно больной матерью, состояние которой стремительно ухудшалось. /…/ 11 сентября 1926 года мать Марии умерла».[872] Вскоре после этого и произошло знакомство Марии Рейтер с Адольфом Гитлером: «Он призвал на помощь весь свой шарм /…/. С сочувствием он осведомился у Марии о болезни ее матери. Он рассказал, как он сам безмерно страдал после смерти своей горячо любимой матери, которая умерла от рака груди, когда Гитлер был еще совсем молодым. Ему казалось невозможным осознать эту потерю. У нее были такие же красивые глаза, как у Марии. И вообще девушка во многом напоминает ему его умершую мать. Затем он предложил сопровождать Марию на могилу ее матери».[873] Лет сорок тому назад автор этих строк смотрел венгерскую кинокомедию о похождениях брачного афериста; ее герой, знакомясь с очередной жертвой (все женщины были очень непохожи друг на друга!), проникновенно говорил, что ее глаза очень напоминают ему глаза его покойной матушки; действовало это, почему-то, безотказно!.. Следователю, задавшему аферисту вопрос об этом, последний разъяснил, что был сиротой — и никогда не видел своей матери!.. Тогда оставалось лишь посмеяться над этой незатейливой выдумкой сценариста и режиссера!.. Отношения Гитлера с Марией развивались стремительно: «Мария принимала мечтательность «Вольфа»[874] за настоящее предложение руки и сердца».[875] «Идиллия длилась до лета 1927 года. Затем до Марии дошли слухи, что ее друг находится в Берхтесгадене — а она об этом даже не слышала. /…/ Гитлер стал избегать встреч со своей подругой, намеренно переходил улицу на другую сторону, едва завидев ее, а при случайных встречах. Казалось, не узнавал ее /…/. В отчаянии девушка решила уйти из жизни, из робости она не смогла даже поговорить о своей беде с кем-либо. Она попыталась повеситься на бельевой веревке, привязав ее к ручке окна родного дома. Случайно ее обнаружил зять, спас ее в последний момент и вызвал семейного врача. Причиной же такого странного поведения Гитлера послужило анонимное письмо, полученное мюнхенским отделением партии /…/. В этом письме председатель НСДАП обвинялся в «развратных действиях в отношении несовершеннолетней». Сексуальному маньяку угрожали заявлением в полицию /…/. Гитлер опасался, что это повредит его репутации, что ему перестанут верить и что это, возможно, приведет к концу его карьеры. Из тюрьмы в Ландсберге его освободили условно-досрочно. Потому он хорошо знал, что ему, как иностранцу, при новом приговоре грозит долгосрочное заключение в тюрьме с последующим выдворением из страны, от которого его не спасут даже его могущественные благотворители, учитывая щекотливый характер правонарушения. «Всего одна неосторожность — и я на шесть лет в тюрьме!» Гитлер /…/ отказался от подруги, которой написал короткое прощальное письмо /…/».[876] Хотя женитьба, как легко понять, устранила бы все двусмысленности и возможные обвинения! Но это был еще не конец! В мае 1930 Мария Рейтер вышла замуж, но брак не был счастливым,[877] что и не удивительно. «После серьезной ссоры с мужем летом 1931 года [!!!] Мария, сказав, что едет к родственникам, на самом деле направилась в Мюнхен и просила адъютанта доложить о ней фюреру. Она ворвалась в его квартиру и, как она говорила, «вложила свою судьбу в его руки». Гитлер встретил /…/ Марию очень дружелюбно, они вместе поехали на Тегернзее [это все то же озеро Тегерн!], где он очень терпеливо и сочувственно выслушал историю несчастного брака. /…/ День завершился в квартире Гитлера: «Вольф крепко схватил меня. Я позволила ему сделать со мной все. Я еше никогда не была так счастлива, как в ту ночь, когда мы были одни в его квартире». На следующеий день Гитлер сделал своей любовнице конкретное предложение на будущее: она могла бы жить с ним в Мюнхене как тайная возлюбленная, он бы сделал для нее все, что она ни пожелала бы. Женитьба для него исключалась полностью. Мария, которая /…/ придавала огромное значение семейным узам и очень хотела завести детей, не могла принять такое предложение. Разочарованная, /…/ она вернулась к своему презираемому мужу /…/».[878] Так происходило почти накануне смерти Гели Раубаль — и притом в той самой квартире, где и произошла эта смерть! Гитлер «годы спустя /…/ говорил: «Мицци была красивой девушкой, просто картинка. Тогда я был знаком с очень многими женщинами. Некоторые тоже очень любили меня…»»[879] Но «Мицци» или «Мими» — Мария Рейтер — постаралась сделать для Гитлера больше, чем другие женщины. Уже после войны она «выступила в защиту мужской чести погибшего диктатора, нашла нотариуса, которому подтвердила под присягой подробнейшим образом характер своих отношений с Гитлером, центральной мыслью была следующая: «Гитлер — как она знает по собственному опыту — был настоящим мужчиной». Это высказывание бывшей подруги Гитлера осталось, однако, без должного внимания, не вошло в большую часть биографий Гитлера и ничего не изменило в стереотипах, приписываемых Гитлеру».[880] Приведенная история стала одним из серийных случаев, характерных для Гитлера того времени: его пылкие чувства почти неизменно адресовались к шестнадцати-семнадцатилетним девицам, не имевшим никакого опыта общения со взрослыми мужчинами. В свое время Гитлеру не хватало ни возможностей, ни умения флиртовать с девицами этой возрастной категории. Теперь он явно пытался наверстать упущенное, но получалось это у него далеко не идеальным образом. Лучше выходило с собаками: немецкие овчарки все же попроще немецких девушек! Не была исключением из этой категории девиц и Ева Браун, родившаяся 7 декабря 1912 года.[881] Хорошо известно, что роман Гитлера с ней — ассистенткой все того же Генриха Хоффмана — начался еще в октябре 1929 года,[882] а с конца 1930 они встречались весьма регулярно.[883] Уже после войны Анни Винтер «заявляла, что в тот день [18 сентября 1931], прибираясь в комнате Гитлера, Гели нашла письмо Евы Браун и страшно разозлилась»,[884] но, возразим, это было делом Анни, а не Гели — прибираться в комнате Гитлера! Иное дело то, какое впечатление смерть Гели произвела на весь этот женский контингент, окружавший Гитлера! Недаром Ева Браун, заметно страдавшая от равнодушия Гитлера, инсценировала 1 ноября 1932 года самоубийство, выстрелив себе в шею.[885] Это была почти точная имитация выстрела, произведенного в Гели Раубаль, — Ева пыталась таким способом привлечь к себе внимание своего возлюбленного! Все эти девицы явно не понимали, с кем они имеют дело в лице Гитлера! Но этого же не понимали и гораздо более умудренные люди! Но не нужно забывать и о том, что было сказано нами о вынужденном одиночестве Гитлера. Все же гибель Гели не была, конечно, рядовым эпизодом в жизни Гитлера. Поэтому следует завершить ее расследование. Всей этой скандальной истории был придан новый ход уже после Второй Мировой войны — и многократно цитированная Зигмунд очень возмущается этим обстоятельством: «Они пытались наделить политического демона такой же демонической личной жизнью. В этом неблагородном состязании сплелись плотная сеть из лжи и правды, возник портрет личности, исправить который не в состоянии было ни одно серьезное историческое исследование. Ведь о сфере личных отношений между Гели Раубал и фюрером сохранилось очень мало документов. Серьезные источники — большая редкость».[886] Но Зигмунд оказалась счастлива хотя бы в том отношении, что был-таки обнаружен один серьезный источник, позволивший оградить любимого фюрера от злостнейшей клеветы: «Долгое время отсутствовал фактический материал для опровержения одного совершенно невероятного слуха: сам Гитлер якобы тайно вернулся в мюнхенскую квартиру и в припадке ярости убил свою племянницу. Это обвинение было снято благодаря случаю: мюнхенский историк Антон Иоахимсталер внимательно просмотрел в Баварском государственном архиве составленное полицией пухлое дело шофера Гитлера Юлиуса Шрека. Он обнаружил /…/ также штрафную квитанцию, выписанную за превышение скорости в день самоубийства Гели. «19 сентября 1931 года, в 13 часов 37 минут легковой автомобиль с номером IIA-19357 [ «Мерседес» Гитлера][887] ехал по перекрытой местности Эбенгаузен [административный округ Ингольштадт][888] со скоростью 55,3 км в час, превысив допустимую скорость на данном участке дороги на…» — занес в свой протокол гауптвахмистр Пробст, который вместе с коллегами замерил скорость автомобиля Гитлера при помощи секундомера. Полицейский тем самым подтверждал показания Гитлера, обеспечив ему алиби и освободив его от обвинений в убийстве. Шрек при последующем составлении протокола показал, что Гитлер, узнав о смерти своей родственницы, приказал ему «ехать как можно быстрее».»[889] Последняя подробность дополнительно подтверждает, что инцидент имел место именно 19 сентября, а не в какой-либо иной день! Прочитав такое, начинаешь ощущать себя полным идиотом. Поясняем: Ингольштадт — это полдороги между Мюнхеном и Нюрнбергом, а вся дорога между этими крупными германскими городами (взгляните на карту!) — примерно 160 километров! И вот Гитлер находился в 13 часов 37 минут 19 сентября (19-го, а не 18-го!) не в Сингапуре или в Сан-Франциско (что, безусловно, создало бы ему алиби), а рядом с Ингольштадтом, т. е. примерно в 80 километрах от того места, где накануне, 18 сентября, между 17 и 18 часами (по данным полицейской «экспертизы») произошло убийство, в котором подозревается Гитлер! Да ведь Гитлер, выехав из своей квартиры около 15 часов 18 сентября, как раз мог на вполне нормальной скорости доехать почти до Ингольштадта, затем вернуться обратно, «вовремя» совершить убийство, а потом вновь проследовать через Ингольштадт в Нюрнберг и спокойно заночевать там в отеле с вечера до утра. Что же это за алиби? Или это все-таки не мы — полные идиоты? Однако мы все-таки согласны с Анной Марией Зигмунд в том, что предположение о том, что Гитлер тайно вернулся в мюнхенскую квартиру и в припадке ярости убил свою племянницу, является совершенно невероятным слухом! Зачем ему это нужно было делать, если он прекрасно мог это сделать, просто не выходя из квартиры? С демоническими личностями автору этих строк как-то не случалось встречаться, тем более — с истинными демонами; последнее, по-видимому, еще впереди. Но вот с отвертками и с запертыми дверьми вполне приходилось сталкиваться. И никакие серьезные новые источники нам не нужны: выше приведены вполне достаточные сведения для того, чтобы понять, что именно и в какие именно часы и минуты происходило в мюнхенской квартире Гитлера 18 сентября 1931 года. Разъясняем для тех, кто не умеет открывать запертые двери: отвертки для этого очень подходят, но только при специфическом устройстве дверей и замков. Для этого имеется несколько возможных вариантов. Например, можно отверткой выкрутить крепежные винты или шурупы — и вынуть запертый замок целиком, после чего дверь отворяется. Для этого, однако, необходимо, чтобы чтобы эти крепежные детали завинчивались снаружи, а это нелепо, если только комната заранее не предназначена для использования в качестве тюремной камеры или кладовки, запирающихся исключительно снаружи, что едва ли предусматривалось в данной комнате квартиры Гитлера. Можно также вывернуть винты, которыми крепятся дверные петли к стене — и снять затем дверь целиком. Но это тоже подразумевает наружнее крепление петель, что также нелепо по указанным выше мотивам. Можно использовать солидную отвертку как рычаг: подсунуть под нижнюю щель двери и приподнять последнюю, стараясь снять с петель. Но это бесполезный трюк, если язычок запертого замка достаточно плотно входит в ячейку, не оставляя степеней свободы для вертикальных смещений двери, а также если дверь допускает снимание с петель лишь в открытом состоянии, а не в закрытом, что обычно и стараются обеспечить ради надежности запирания. Можно продолжить перечисление специфических рецептов, но существует простейший способ открыть замок отверткой, который наверняка использовал и Георг Винтер 19 сентября 1931 года, тем более что и он сам, и свидетельницы упоминают только об открытии замка, а не о снимании двери с петель. Речь идет о том, чтобы засунуть отвертку в дверную щель и отжать ею язычок замка, после чего дверь свободно распахивается. Такой трюк широко используется героями голливудских боевиков на глазах миллионов восхищенных кинозрителей; в Голливуде для этих целей принято обычно применять не отвертки, а пластиковые карточки или (при очень крутом развороте событий!) лезвия ножей! Между тем этот трюк проходит лишь тогда, когда замок снят с собачки и захлопнут, но не заперт поворотом ключа изнутри: при неподвижном положении язычка, зафиксированном запертым замком, отверткой его уже не откроешь — для этого требуются другие инструменты, о которых расскажем как-нибудь в следующий раз! Это также означает, что если даже ключ в замке и торчал изнутри, но он не был повернут для запирания, а дверь была при этом лишь захлопнута, для чего, возможно, при ее предшествующем закрывании (предположительно — снаружи!) нужно было также придержать снаружи язычок замка — аналогичной отверткой или тонкой металлической линейкой, коль скоро тогда пластиковые карточки не применялись. А это, в конечном итоге, означает, что если не было самоубийства, то произошло вполне примитивное убийство, завершившееся тем, что убийца, выходя, запер за собой дверь именно таким способом, придерживая подходящим предметом язычок замка. Если же дверь просто автоматически захлопывалась при закрывании снаружи, открываясь затем изнутри при данном положении замка поворачивающейся ручкой или другой деталью замка (имеются разнообразные варианты их конструкций) или ключом, то и в этом случае полезнее, уходя, чем-то прижимать язычок замка — для бесшумности. Понятно, что все эти премудрости (и многие другие!) Адольф Гитлер должен был изучить еще под руководством его собственного отца — и успешно применять их в Шпитале во времена собственного детства. Никакого убийства в запертой комнате тут не было, как, впрочем, и во всех других аналогичных случаях, задуманных писателями — всегда и там, как и тут, дело сводится к какой-либо технической детали, не бросающейся в глаза при первоначальном знакомстве с обстоятельствами. Теперь можно оставить в стороне все детали, свидетельствующие о возможном самоубийстве (впрочем иных, кроме упомянутых выше, просто не было), и сосредоточиться на вполне вероятном убийстве. Что же касается несчастного случая — то это просто несерьезно. К чему бы Гели Раубаль было забавляться с пистолетом, принеся его специально из комнаты дядюшки, да еще и таким странным образом, чтобы нанести себе смертельную рану, которая, как будет следовать из рассмотренных ниже обстоятельств, вовсе и не была смертельной? Теперь можно восстановить полную картину преступления. Слуг мы спишем из числа подозреваемых, хотя у них были возможности совершить такое убийство. Ведь по какой бы причине ни была убита Гели, но хлопоты со слугой, явившимся наемным убийцей, создали бы у Гитлера заведомо больше проблем, чем вызывала у него почти невинная племянница. Искать же у слуг побудительные мотивы для убийства, не связанные с волей их хозяина, тем более трудно. Заметим, что тогда бы и вся инсценировка строилась по совершенно другим принципам — убить было бы значительно проще на улице или где-нибудь еще, или при каких-то других обстоятельствах в этой же квартире, но не среди бела дня, когда квартира была набита другими слугами! Точно так же нужно исключить из числа подозреваемых Марию Рейхерт и ее супруга: с вечера 18 сентября и всю последующую ночь вроде лишь они одни находились в квартире (будучи живыми), а потому являются единственными подозреваемыми в убийстве в течение этого времени. Это также логически снижает возможность их вины, хотя и не абсолютно. Или же все это было каким-то коллективным ритуальным убийством (возможно — в интересах того же хозяина), совершенным всеми слугами совместно — как в «Восточном экспрессе» у Агаты Кристи! Но мы себе позволим отбросить и этот вариант: полагаться на то, что каждый из этих убийц сохранил бы в полнейшем секрете собственное участие в столь необычном деле, было бы абсолютно нелепо — они не были высоко интеллигентными и предельно мотивированными героями «Восточного экспресса»! Поэтому убийцей, скорее всего, не мог быть никто из слуг. Сосредоточимся теперь на деталях преступления, описанных в скупых полицейских протоколах и показаниях свидетелей. Удивительным образом зафиксировано, что окно в комнате было единственным, но ничего не сказано о состоянии этого окна. Между тем, это обязательно должно было бы учитываться в тот осенний день, про который известно: «было облачно, иногда накрапывал дождь. /…/ резкое изменение погоды, когда в Баварии впервые за 100 лет под конец лета выпал снег, стало признаком надвигающегося фёна».[890] При приоткрытом окне должно было происходить одно, при наглухо закрытом — совершенно иное. Принципиально разными должны были бы быть и оценки времени предполагаемого наступления смерти. Кроме того, все посторонние запахи (обычными должны были быть запахи косметики молодой женщины, но она, заметим, долгое время до 16 сентября не находилась в этой комнате) могли полностью исчезнуть за 17-18-20 часов при приоткрытом окне, вносящем порывы воздуха из дальних краев. Удивительнейшим образом отсутствуют упоминания о крови жертвы. Из дополнительного заявления прокуратуры можно даже заключить, что не было вообще никакой крови вблизи рта и носа покойной, расположенных вовсе недалеко от входного отверстия пули, находившегося на шее, плече или груди погибшей. Отметим и то, что мертвая лежала лицом, а следовательно — и входным отверстием пули вниз, хотя и о последнем нет прямых сведений; можно даже предположить при таких протоколах, что самоубийца или шалунья стреляла в себя со спины! Но при входном отверстии пули, обращенном вниз, при длиннейшем канале следования пули внутри тела сквозь множество кровеносных сосудов (сверху — с шеи, повторяем, плеча или груди — сквозь легкое и до левого бедра), при продолжавшем работать сердце, не задетом пулей, кровь должна была выкачиваться наружу — и через пулевое отверстие, и через носоглотку (жертва ведь продолжала дышать, пока, якобы, не задохнулась от внутреннего кровоизлияния!). В результате лицо и верхняя часть туловища жертвы должны были бы лежать в изрядной луже крови, но о крови никто вообще не произнес и не написал ни слова! Таким образом, становится наиболее реальным предположение, что жертва сначала умерла (от удушения), а уже затем в ее тело был произведен выстрел! Естественно, что из мертвого тела с неработающим сердцем могло вообще не вытечь почти ни капли крови, как это, судя по описаниям, и имело место быть! Теперь картина преступления становится абсолютно ясной. Преступление было, конечно, задумано заранее: импровизация в таких делах к добру не приводит. И ни о каком тайном возвращении Гитлера в мюнхенскую квартиру и об убийстве в припадке ярости речи идти не может: само по себе тайное возвращение откуда-то издалека и убийство в припадке ярости по сути исключают друг друга — или одно, или другое! Такое убийство могли совершить только сам Адольф Гитлер или убийца-актер, играющий роль Адольфа Гитлера, поскольку на вспомогательных этапах операции лишь один Адольф Гитлер мог просто и свободно перемещался по квартире, в которой был хозяином: любой посторонний, увиденный или услышанный в такой ситуации слугами, вызвал бы острейшие подозрения. Но никто на свете не справился бы с ролью Адольфа Гитлера лучше него самого! Как нам представляется, дело началось издалека и задолго. Ниже мы постараемся обосновать, что мотив для убийства созрел еще в августе 1931 года — и это никак не было связано с мимолетным романом с «Мицци». Сначала убийство было задумано, затем племянница была приглашена приехать в Мюнхен. Приехала она, напоминаем, 16 сентября — в результате настойчивых уговоров дядюшки; иначе все могло сорваться и отложиться на неопределенный срок: далее Гитлеру маячили поездка в Гамбург и другие важнейшие дела. Где-то в это же время был подстроен и предлог для поездки, назначенной на 18 сентября — и об этом оповещены все обитатели мюнхенской квартиры, да и все приближенные Гитлера вообще. Повод для поездки должен был быть простым и обыденным — и не требовал торжественных проводов всей домашней челядью. Утром в день отъезда нужно было спровоцировать племянницу на скандал, который бы оправдывал ее самоубийство в глазах окружающих. Это, заметим, удалось настолько, что действует по сей день. Не поверила в это лишь мать убитой — и терялась с тех пор в догадках о сути происшедшего. Далее все шло также по плану. Слуги подготовили имущество хозяина в дорогу. В согласованное время фотограф подъехал на машине к подъезду и зашел доложить, что транспорт подан. Шофер остался внизу или тоже поднялся, чтобы принять участие (как и кто-то из квартирных слуг) в погрузке багажа — путешествие предполагалось не на один день. При этом все немного пошумели и посуетились, все остающиеся уверились в том, что Гитлер с Хоффманом сейчас уезжают, и произошло общее прощание: безо всяких особых процедур — как обычно. Суета завершилась — и слуги вернулись к своим домашним делам. А хозяин мог еще задержаться на минутку вместе с Хоффманом в собственной комнате (он сам себе был хозяином!) — пока слуги не разбредутся по углам. Затем он мог выпустить Хоффмана сначала из своей комнаты, потом из квартиры — и все, кто мог, услышали, что они ушли. Хоффману Гитлер мог объяснить, что хочет еще пару слов сказать обидевшейся племяннице (Хоффман и сам мог убедиться, что она была обижена) — и задержался. Но он мог Хоффману и что угодно другое сказать — он был хозяином и по отношению к Хоффману. Тот ушел, квартирная дверь захлопнулась за ним, а Гитлер повернул назад — к своей комнате. С этого момента в квартире как бы действовал призрак — единый в двух лицах. Все слуги, которые могли бы его увидеть, увидели бы натурального живого Гитлера — и нисколько бы не удивились, отметив лишь для себя, что хозяин почему-то еще задержался в квартире; в этом не было ничего подозрительного. Хоффман, которого позднее спросили бы об этом, подтвердил бы: да, Гитлер задержался. Все слуги, которые могли только слышать перемещения этого призрака, были уверены, что Гитлер уже ушел; следовательно, по квартире перемещалась невидимая ими (безо всякой мистики!) Гели Раубаль — больше ведь было некому! Гитлер, выпроводив Хоффмана, зашел в свою комнату и закрыл дверь: ему нужно было вооружиться орудиями для убийства — и никто из коридора не должен был по случайности увидеть его в этот момент. Затем он проследовал в комнату Гели. Анни Винтер, слышавшая все это, приняла шаги Гитлера, шедшего и по направлению к собственной комнате, и снова, после паузы, уже по направлению к комнате Гели быстро и на цыпочках, за шаги Гели — и позднее интерпретировала эти звуки таким образом, что Гели зашла в комнату Гитлера, забрала пистолет и проследовала к себе. Анни, правда, утверждает, что видела Гели. Понятно, что Анни видела Гели в середине того дня, но вот до отъезда Гитлера или после — уточняющего вопроса ей не задавалось. После же того, как квартирная дверь захлопнулась, как очевидно полагала и Анни, за Гитлером, перемещаться по коридору могла только Гели — больше, повторяем, было некому! Но та же Анни, которая не видела и не могла слышать никакого пистолета, который Гели должна была бы нести в руках, и не утверждает этого, а только предполагает! Все прочие высказывания Анни свидетельствуют о том, что граница между ее достоверными впечатлениями и ее фантазиями не отличалась уверенной четкостью! Заметим и то, что Анни, скорее всего, была заметно удивлена наличием пистолета Гитлера в комнате Гели, и ее главной задачей было даже не обмануть полицию, а объяснить себе самой то, чего она не понимала: вот и пришлось ей явно домысливать собственные впечатления, чтобы разобраться в них. Заметим, что полиция не задала и такой естественный вопрос: а где обычно пребывал этот пистолет во время поездок Гитлера? Имеющиеся свидетельства о том, что путешествовавший Гитлер не расставался с пистолетом, не слишком многочисленны и относятся к различным годам его жизни после Первой Мировой войны — у Гитлера не было привычки беспричинно демонстрировать пистолет окружающим; вот о его знаменитой плетке из бегемотовой кожи пишут буквально все, сопровождавшие Гитлера в автомобильных поездках или видевшие его на прогулках с собаками. Так что где же должен был бы находиться пистолет при обычных обстоятельствах — совершенно неизвестно. То, как Гитлер вошел в комнату Гели, слышала и Мария Рейхерт. Она, к тому же, услышала, что дверь в комнату заперлась: Гитлер, естественно, должен был постараться принять меры к тому, чтобы кто-нибудь, услышав подозрительные шумы (заранее их возможность нельзя было исключить!), не зашел бы и не застал его в самый момент убийства — и замок был защелкнут. Затем Мария Рейхерт слышала сам акт убийства, но не поняла этого и не испытала никакой тревоги. Удивительным является то, каким образом Гитлеру почти без шума и сопротивления удалось справиться со здоровой 23-летней девицей-спортсменкой. Конечно, сам он к этому времени был вовсе не инвалидом: ему было 42 года, он еще не вегетарианствовал, с удовольствием слонялся по горам и энергично играл с собаками. Тем не менее, планируя такое преступление, невозможно было не учитывать отчаянного сопротивления молодой здоровой женщины, вдруг понявшей, что ее убивают! Уж закричать-то она вполне могла бы — и на слуг затем надежда была бы небольшой: своя рубашка, как говорится, ближе к телу: уж на анонимную-то информацию прессе кто-нибудь из них не поскупился бы — за приличный гонорар! Автор этих строк затратил немало усилий для того, чтобы вообразить себе картину этого преступления. Сразу стрелять при таких условиях было невозможно: если не туда попадешь, целясь в еще подвижного человека, — сорвешь версию самоубийства; если не прижмешь дуло плотно к телу — раздастся слышный звук выстрела! Следовательно, Гели была сначала удушена, причем не за шею (гарантировать то, что следы на шее не разглядели бы на следующий день слуги и полиция, было невозможно!), а путем затыкания ей носа и рта — при этом она и не пикнула! Но как с этим мог управиться один человек, обеспечив полную бесшумность всего этого? Поэтому нами рассматривался даже вариант убийства вдвоем (Гитлер напару с Хоффманом), но в этом случае маршировка по квартире целых двух «призраков» стала бы уже перебором; тут не прибавилось бы бесшумности и скрытности, а резко убавилось! Стало ясно, что Гитлер должен был применить специфическое и обычно применяемое в таких случаях техническое средство: кусок ткани или кляп, пропитанный хлороформом. Именно так, например, агенты ОГПУ похищали эмигранта генерала А.П. Кутепова 26 января 1930 года прямо на парижской улице; до Москвы его так и не довезли — он умер от передозировки наркоза, случайной или преднамеренной; там была возможна очень сложная политическая комбинация! Для приготовления такого оружия Гитлеру и понадобилось уединиться в своей комнате после ухода Хоффмана. Фляжку или иной сосуд из-под хлороформа он должен был унести в кармане. Заранее положить пистолет в другой карман он мог бы хоть за полдня до этого, хотя и это было лучше делать в последний момент: Анни Винтер или еще кто-нибудь могли заметить отсутствие пистолета на обычном месте! Проносить в коридоре приготовленный сверток нужно было аккуратно, чтобы не наследить запахом, а войдя в комнату Гели и заперев дверь, развернуть его и действовать стремительно. Гели, вероятно, сидела за столом спиной к двери и писала письмо. Она не должна была сильно удивиться появлению дяди на прощание перед его отъездом и не успела испугаться. Что-то, возможно, он негромко ей сказал — этого уже нельзя было услышать за дверьми и за стенами. Нападение со спины было совершенно неожиданным, и невозможно было сопротивляться, когда рот и нос уже оказались зажаты рукой — с тряпкой, пропитанной хлороформом! Вероятно, и тело обмякшей жертвы было опущено Гитлером вниз мягко и аккуратно; то же, что слышала Мария Рейхерт, и было выстрелом: спустя некоторое время донесся легкий шум из комнаты Раубал, как будто что-то упало на пол — это вполне мог быть звук приглушенного выстрела! Прежде чем его производить, жертву нужно было додушить насмерть, продолжая затыкать ей рот и нос. Вероятно, Гитлер прижал еще дергавшуюся племянницу лицом к полу, навалившись на нее всем телом — и в такой позе окончательно додушил. Получилось почти сексуальное убийство, с таким удовольствием регулярно разыгрываемое им перед тысячами митинговых слушателей! Потом нужно было постараться точно выстрелить, плотно прижав дуло к телу — но не получилось попасть в сердце! Это было физически нелегко: одной рукой приподнимать труп с пола, другой — точно и аккуратно стрелять! Теперь нужно было окончательно убедиться в отсутствии у Гели пульса и дыхания, оглядеть положение всех предметов в комнате — и устранить малейшие признаки происшедшей борьбы, насколько это было вообще возможно. Невредно было и дополнительно прижать убитую носом и щеками к полу — чтобы частично сгладить следы от пальцев, оставшиеся на ее лице. Вероятно, он постарался и бесшумно распахнуть окно — на одну-две минуты, чтобы отдышаться самому и значительно снизить запах хлороформа и пороховых газов при последующем выходе в коридор. Затем прикрыл окно, оставляя щель; для этого в немецких домах используется специальная задвижка. Перчатки должны были быть надеты заранее — они спасали кожу от химиката, да и душить в них было сподручнее! Сами по себе отпечатки пальцев Гитлера в этой комнате ни о чем не говорили, но вот на замке, на дверных и оконных ручках и на теле убитой их не должно было оставаться. Перчатки были необходимы и для того, чтобы предстать через минуту перед спутниками по путешествию: на руках вполне могли остаться синяки от ее ударов, царапины от ногтей или следы от зубов! Что-то из этого могло оказаться и на других частях его тела. Перед выходом из комнаты следовало прислушаться, нет ли кого в коридоре, затем по возможности бесшумно открыть замок и раскрыть дверь — и оглядеться вокруг. Если бы кто-нибудь увидел Гитлера, выходящего из комнаты Гели, то убийца, говоря при этом что-нибудь вслух якобы живой племяннице, мог повернуть назад — и снова должен был возобновил попытку уйти еще через две-три минуты. При этом он по-прежнему не вызвал бы никаких подозрений — даже и в случае смерти, отрывшейся на следующий день — самоубийство могло ведь произойти позднее того, как его видели; это бы только внесло некоторые изменения в показания различных людей, вовсе не потребовав их предварительного преступного сговора! Гитлер мог бы и что-нибудь раздраженно сказать непрошенному соглядатаю, вынудив его (или ее) ретироваться. Убедившись, что в коридоре никого нет, он должен был окончательно выйти из комнаты, бесшумно заперев при этом дверь описанным выше способом — с помощью отвертки или линейки. Вот это был единственный момент во всей операции, когда Гитлер должен был рисковать вести себя нестандартным образом на виду у возможных свидетелей, вызывая их удивление. Но и это дело требовало лишь нескольких секунд, возможно — всего двух-трех, как заранее потренироваться! Он должен был бы и стараться прикрыть своим телом то, что он делал с замком, если бы кто-нибудь внезапно возник с какого-либо бока или из-за спины. Затем, следуя по коридору к выходу из квартиры, он уже снова ни у кого не мог вызвать никаких подозрений. Скорее всего, никто его так и не увидел. А вот открывать и закрывать квартирную дверь ему следовало совершенно естественно, а не скрытно: вполне разумно, что кто-то мог принять шум, произведенный Гитлером, уходящим из квартиры, за уход его племянницы. Об этом бы поговорили (может быть — и поговорили!), но ломать дверь ее комнаты тем более не возникало никакого резона! Труп в комнате за его спиной должен был вызвать подозрения лишь на следующий день — как это и произошло. Прошедшее время до появления полиции (порядка двадцати часов) ликвидировало значительную часть улик — с неумышленным участием тех же слуг, прибиравшихся по всей квартире, кроме запертой комнаты. Запах хлороформа должен был улетучиться без следа при неприкрытом плотно окне. Другие улики были нивелированы нажимом высокого начальства, парализовавшего деятельность полицейских функционеров. А ведь, наверное, какие-то повреждения были на теле Гели и еще — помимо огнестрельной раны и следов на лице! Ждущие внизу Хоффман и Шрек не должны были обеспокоиться задержкой шефа, да он им что-то исчерпывающее и объяснил по этому поводу. Улики на одежде Гитлера (включая все-таки возможные, хотя и необильные брызги крови) можно было ликвидировать в номере отеля в Нюрнберге, да их затем никто и не искал. Тело самого Гитлера также никто не подвергал осмотру. Заметим, однако, что на глаза самой внимательной и заинтересованной наблюдательнице — своей сестре Ангеле, матери погибшей, он рискнул появиться, если не считать возможных мимолетных встреч (которых, вероятно, и не было), не раньше чем через десять дней после убийства. Спутников Гитлера ни о чем не допрашивали. Лишь после войны Хоффман рассказывал, как его и Гитлера провожала Гели; тогда его уже никто не стал уличать в лжесвидетельстве! Слуг не допрашивали о деталях их впечатлений и наблюдений — и не сравнивали хронометраж и последовательность этих деталей; а ведь это могло выявить перемещение «призрака» по квартире и его выход к машине! Все было шито-крыто, хотя, очевидно, это было вовсе не идеальное убийство, и раскрытие его не должно было бы составить особых трудностей для полиции. Но, увы: с начальством не поспоришь! Ничего демонического, на наш взгляд, во всем изложенном нет: просто грамотная, профессиональная работа, безукоризненно рассчитанная психологически и почти идеально осуществленная! Несомненно, однако, что ее исполнение потребовало колоссальной концентрации воли, чувств и физических сил убийцы! Стандартный же вопрос применительно к нашему главному герою о том, было ли все это целесообразно для него или нет, мы обсудим ниже. Гитлера можно считать профессиональным убийцей потому, что методы, применяемые им, были высокопрофессиональными и идеально продуманными. Но сам он не был законченным убийцей-исполнителем — прирожденным или полностью воспитанным. Он не обладал подходящей для этого конституцией нервной и психической системы. Возбудимость и развитость его воображения вовсе не способствовали легкости совершения им убийств — они требовали от него колоссального расхода нервной и психической энергии. Депрессия после смерти Гели, интерпретированная окружающими как проявление его неподдельного горя, пришлась весьма кстати — и оправдала в их глазах полнейший упадок сил, затраченных им на выполнение этой сложнейшей операции. У Гитлера вообще не было склонности к непосредственному свершению убийств: ведь все отравления, описанные выше, по самой своей технике обеспечивают определенный разрыв между действиями убийцы и непосредственной смертью жертвы; к тому же такие убийства не сопровождаются кровотечениями! Характерно профессиональное солдатское поведение Гитлера на войне: поначалу он был санитаром — и нагляделся на вид крови, совершенно очевидно не испытывая при этом никаких удовольствий; затем стал посыльным при штабе. Это вовсе не безопасные занятия, и они не свидетельствуют об отсутствии у него личного мужества; его Железные кресты — бесспорное свидетельство его заслуг. Но он, очевидно, вовсе не стремился убивать на войне — и даже, возможно, вообще не убил там ни одного человека. Поначалу, вероятно, ему в этом повезло. А может быть, как раз в начале-то он кого-нибудь и убил — и также не испытал при этом никаких положительных эмоций. А вот потом, будучи на положении фронтовика-ветерана, он уже заведомо имел значительные степени свободы в выборе своих занятий — и, повторяем, вовсе не стремился к кровавым убийствам. Это-то и чувствовали позднее такие хладнокровные и уверенные в себе убийцы, как Геринг или Рем. Этот текст нисколько не должен рассматриваться как оценка моральных качеств Гитлера. Просто у каждого убийства — разные составляющие. Интеллектуальная часть, сводящаяся к замысливанию, планированию и организации убийства, и была истинным призванием Гитлера, унаследованным от множества его предков и закрепленным воспитанием и самовоспитанием, полученными им в детстве, от этого-то он и получал несомненное удовольствие, а вот физический процесс самого убийства — это был вовсе не его конек! «Лишь однажды, 9 августа 1921 г., он ударил политического противника. Он ни разу не присутствовал при убийстве или казни, если не считать его пребывания на фронте с 1914 по 1918 г.»[891] Убивать ему самому — это было все равно что, как говорится, забивать гвозди микроскопом! В конечном итоге жизнь и карьера Гитлера-убийцы сложились почти идеально: встав во главе Германии, он только продумывал затем убийства и старался очень взвешенно и подспудно отдавать распоряжения на их исполнение, а осуществляли это уже другие, более подходящие персонажи. При такой рациональной системе разделения труда и при таких ревностных исполнителях все они вместе и наработали миллионы уничтоженных людей — выдающийся показатель, близкий к рекордным! Но все это сорганизовалось не сразу, а убийства, физически совершенные им самим, вызывали у него изрядный душевный дискомфорт. Зигмунд правильно отметила, что отвращение Гитлера к пьянству, мясной пище и курению проявлялись у него еще до гибели Гели — это и не случайно, и, в его случае, вполне естественно. Курение тут, правда, стоит несколько особняком. Вполне возможно, что Гитлер бросил курить из экономии — в недолгий период своей нищеты, о котором ниже. Как у многих бывших курильщиков у него могло возникнуть отвращение к табачному дыму. Мы не знаем, курила ли Гели, но это очень вероятно — и ему это приходилось терпеть. Ее смерть позволила ему покончить и с этой неприятной стороной его быта. Известно, что позднее и секретарши Гитлера, и Ева Браун курили тайком от него. Ева зажевывала сигареты ментоловыми пастилками.[892] Нетрудно понять и то, что поднимаемые в застольях бокалы ассоциировались у Гитлера с тем последним, который опрокинул в себя его отец. Можно углядеть и еще одну деталь, подчеркивающую эту аналогию: Гитлер редко пил вино, а когда пил — подсыпал в бокал сахарную пудру: это, кроме чисто вкусового эффекта, очень выразительное символическое действие, имитируещее подсыпание яда в бокал! Дело было, конечно, еще и не только в этой символике, но и в том, что опьянение естественно вызывало и распущенность языка. Отто Штрассер так писал об этом: «Настоящие аскеты жертвуют плотскими удовольствиями ради высшей идеи, в которой они черпают силы. Адольф же отказывается от них из чисто материалистических побуждений: он уверен, что /…/ употребление спиртного притупляет бдительность и ослабляет самоконтроль».[893] Мы об этом уже много рассуждали, а ниже постараемся завершить эту тему. Что же касается мясной пищи, то дело здесь и вовсе ясное — для всех людей, а не только для убийц. Стоит лишь задуматься о том, что любой кусок мяса — часть тела убитого животного, представить себе это убийство — и кусок этот в горло не полезет! Дай только волю своему воображению на эту тему — и единственным выходом только и останется вегетарианство! А вот Гитлер никак не мог избавиться от призраков убийств, совершенных им самим. Естественно, что убийство Гели оказалось здесь последней гирей, перевесившей чашу весов и приведшей его к окончательному решению для себя всей этой этической и моральной проблемы. Это было не единственным следствием убийств, повлиявшим на последующие постоянные настроения и поведение Гитлера. Другим было то, что легкость и безнаказанность всех этих убийств порождали у Гитлера страх оказаться аналогичной жертвой чужой злой воли. Поэтому Гитлер, например, часто путешествуя, держал до последнего момента в секрете от всех остальных то конкретное место, в котором планировался его ночлег: «он всю жизнь предпринимал такие чрезвычайные меры по обеспечению собственной безопасности».[894] Сравните по контрасту с этим, кстати, то, как легко оказалось отыскать Гитлера в Нюрнберге 19 сентября 1931 года — это, следовательно, тоже было заранее предусмотрено! Отсюда — и сверхъестественные приступы боязни отравления, периодически вспыхивавшие у Гитлера. Вот как тот же Ханфштангль писал о ситуации уже 1932 года: «Берлин уже стал территорией Геббельса. У него была большая квартира на Рейхсканцлерплац на западе города, и, когда Гитлер вдруг решил, что кухонный персонал в «Кайзерхоф» наполнился агентами коммунистов, которые добавляли яд в его пищу, Магда Геббельс завоевала его сердце, готовя изысканные вегетарианские блюда, которые возили для него в отель в термоконтейнерах».[895] Ангела Раубаль, напоминаем, вроде бы уверовала в то, что ее брат неповинен в смерти ее дочери, но для Гитлера ее настроения представляли с тех пор серьезную потенциальную угрозу: она оставалась домоправительницей в Оберзальцберге — и без труда смогла бы отравить его, если бы захотела. Гитлер стоически терпел это несколько лет, но потом не выдержал: «Ангела /…/ в течение почти 30 лет пользовалась его доверием и с 1928 по 1935 г. даже оказывала ему помощь в ведении хозяйства, прежде чем в один прекрасный день внезапно исчезла из его окружения. /…/ Патрик Гитлер, ее племянник, признавался в своей статье в «Пари суар», что проявление любых эгоистических интересов вызывало в нем радикальную и внезапную негативную реакцию. «В 1935 г.[896], — пишет Уильям Патрик, — Адольф Гитлер встретил Ангелу на пороге своего дома в Берхтесгадене и дал ей ровно 24 часа, чтобы упаковать чемоданы… Он обвинил ее в том, что она помогла Герингу приобрести в Берхтесгадене земельный участок… который располагался прямо напротив его дома и на котором Геринг собирался построить себе дом». Он поступил так, хотя четыре года назад Гели застрелилась в его мюнхенской квартире»[897] — именно потому что, а не хотя, и не застрелилась, а была застрелена! Предлог для разрыва с Ангелой был явно надуман, но иного не нашлось! Таким образом, вегетарианство и трезвенность оказались не только проявлением тайных, иррациональных по существу страхов Гитлера, но стали и вполне рациональной защитой от этих страхов. Перейдя на постоянное потребление пищи и напитков, отличных от всего, чем пользовались все его окружающие, Гитлер резко снизил вероятность отравления с чьей-либо стороны. Отныне ему приходилось концентрировать внимание лишь на контроле за настроениями и убеждениями тех немногих людей на его собственной кухне, которые и готовили пищу и напитки непосредственно для него, а также стараться не сводить глаз с собственной пищи, стоящей на столе в присутствии посторонних. В крайнем случае, усомнившись в том, что доглядел за всем, он мог просто временно ничего не есть и не пить — воздержание на пару часов не могло ему повредить, как и всякому другому! Это обеспечивало Гитлеру вполне определенный психологический комфорт, компенсирующий ему недостаток животной пищи, который он сам периодически отчетливо ощущал: с 1931 года «он отказывается /…/ употреблять мясо, хотя нередко и жалуется по этому поводу. «И за счет этого человек должен жить… Как же тут проживешь?» — задает он вопрос Альберту Шпееру в 1935 г.»[898] Тот же Шпеер свидетельствовал, что Гитлера раздражало демонстративное вегетарианство Рудольфа Гесса, совершенно немотивированное с его, Гитлера, точки зрения: «Гесс бывал частым гостем за столом Гитлера в Канцелярии. Однако однажды Гитлер обнаружил, что его заместитель принес с собой свою вегетарианскую пищу, которую стал разогревать в кухне. Когда Гитлер укорил его, Гесс пояснил, что находится на особой диете из «биологически активных» продуктов. Гитлер сказал ему, что в таком случае ему нужно обедать дома. После этого Гесс не так часто бывал за обедом».[899] Понятно: Гесс ведь не был убийцей (не считая жертв со стороны противника на фронтах Первой Мировой войны) и не имел врагов, заинтересованных в мести лично ему, — так этот-то что выпендривается?!. На фоне всех этих серьезных фобий фюрера и их истинных мотивов приведенный выше рассказ Гитлера о том, как он якобы напился в 1905 году, а потому перестал потреблять алкоголь, выглядит веселеньким и неправдоподобным анекдотом. К нему мы теперь и возвращаемся, совершив изрядный круг по другим историям и обстоятельствам. Едва ли эта история была выдумкой (кроме, разумеется, ее последней фразы, как уже отмечалось). Так, возможно, примерно и происходило в 1905 году, как было рассказано Гитлером в 1942-м — и вовсе ничего удивительного не было в том, что подвипивший юнец-хулиган использовал школьное свидетельство вместо туалетной бумаги! Это вполне соответствовало и его трезвым взглядам на роль учебы в его личной жизни, и его страстному желанию окончательно освободиться от этой учебы, осуществленному достаточно вскоре. Был, конечно, в этом эпизоде и определенный негативный момент для него самого — тягостная беседа Гитлера с директором училища, но в конечном итоге по ходу рассказа и этот директор остался осмеянной и униженной фигурой, так что все происшедшее должно было доставлять годы спустя лишь удовольствие Гитлеру, ударившемуся в воспоминания. Он-таки и испытывал такое удовольствие — это ясно отражается в залихватски-хулиганском тоне рассказа! Да иначе он ничего подобного и не рассказывал бы! Никакого повода завязать с пьянством такая история доставить не могла и, очевидно, не доставила. Такую историю, наоборот, было бы естественно многократно и регулярно рассказывать долгие годы спустя — также во время пьянок. Так бы, вероятно, и происходило, если бы Гитлер не прекратил собственное участие в пьянках — по серьезным и едва ли веселым причинам, которыми он, несомненно, никак не мог искренне делиться с окружавшими его лицами. Тем не менее, именно данная история и была выбрана самим Гитлером для того, чтобы как-то объяснить окружающим якобы истинные причины его трезвенности. Каким-то определенным образом эта история, следовательно, ассоциировалась у него с настоящим поводом, повлиявшим на него в данном направлении. При этом было бы вполне естественным, если в буквальный рассказ, воспроизведенный Гитлером, вкрались его собственные тщательно скрываемые мысли и чувства относительно того, что и как происходило с ним на самом деле в тот момент, когда происходило нечто действительно ужасное, отвратившее его от последующего злоупотребления алкоголем. И вот тут-то нам и должна помочь техника, отработанная в психоаналитической рецепторике Зигмунда Фрейда. Главное, как мы полагаем, что объединяет приведенный рассказ Гитлера с тем неизвестным нам истинным сюжетом, произведшим на него неотразимое впечатление, — это сходство общей обстановки и ситуации. Детали, свидетельствующие об этом сходстве, разбросаны по всему рассказу Гитлера — и явно выделяются из него. Дело в обоих случаях происходило, по-видимому, в крестьянском трактире, где было очень весело: мы кутили вовсю — это деталь № 1, относящаяся одновременно и к тому, что рассказывал Гитлер, и к тому, чего он рассказывать не решался. Мы там пили и говорили ужасные вещи — это деталь № 2, существенная приведенной странной подробностью: какие-такие ужасные вещи вообще могли говорить подвыпившие школяры? Уже это — весьма интересная деталь! Как все это было в точности, я не помню… мне пришлось потом восстанавливать события. На следующий день меня разбудила молочница, которая… нашла меня на дороге — это деталь № 3, объединяющая рассказ Гитлера с тем истинным событием, которое он скрывал; молочница, естественно, едва ли могла появляться дважды и относилась, по-видимому, только к одной истории из двух, случившихся с Гитлером (рассказанной и нерассказанной), к какой именно — не известно, но это, конечно, хотя и красочная, но не принципиальная подробность! Заметим однако, что молодой человек, заснувший пьяным ночью на дороге даже в условиях климата благодатной Австрии, мог зимой вовсе не проснуться к утру или, по крайней мере, мог существенно отморозить какие-нибудь жизненно важные органы тела! Гораздо естественнее было бы то, что подобный рассказ относился бы к летнему времени, а не к февральскому завершению семестра! К тому же, повторим, Гитлер не очень-то и контачил в те годы со своими сверстниками — к чему бы это было им стремиться к столь тесному взаимному общению и искать развлечения в бурных совместных попойках? Еще одна деталь к тому же: почему на следующий день, когда Гитлер якобы выяснял отношения с «мамочкой», вроде бы начисто отсутствовали эти остальные участники совместной пирушки — и ничем не помогли даже воспоминаниям похмельного Гитлера? И вот, наконец, решающая деталь № 4, которая никак не может вписываться в воспроизведенный рассказ Гитлера, а целиком относится по смыслу к той истории, которую он постарался скрыть: «мамочка» /…/ дала мне 5 гульденов! Вот тут-то Гитлер и проговорился окончательно! Никаких гульденов никто ему в феврале 1905 года давать не мог: они не ходили в свободном обращении и не принимались к платежам аж с 1 января 1900 года! Пьянка же никак не могла происходить до 1900 года — Гитлер тогда до пьянок еще не дорос! Круг замкнулся — теперь мы можем догадаться, что же постарался скрыть Гитлер. Эта переломная история, сломавшая всю последующую жизнь Гитлера, относится, очевидно, к лету 1908 года, а крестьянский трактир, которым когда-то владел его прадед, находился, естественно, в Шпитале. Там-то Гитлер и отмечал успешное завершение очередной непростой операции: он добрался до собственного тайника и загрузил в свой багаж очередную, вторую по счету, часть сокровищ, доставшихся ему от Иоганна Непомука. Теперь можно было расслабиться и отметить это дело в трактире. Там-то напившийся девятнадцатилетний Гитлер и говорил какие-то ужасные вещи — а сказать он мог много чего ужасного! Кульминацией же вечера, несомненно, было то, что слушатели не очень-то верили распоясавшемуся юнцу — и посмеивались над ним! Тогда он, в доказательство справедливости сообщаемого, полез в карман — и достал монету в сколько-то гульденов, золотых или серебрянных, а может быть — и не одну! Воспоминания об этой страшной сцене и заставили его употребить это слово — гульден, которое никак не могло относиться к приведенному рассказу о школьном свидетельстве. На следующий день несчастному Гитлеру пришлось восстанавливать эти события в памяти — и ничего утешительного для себя он восстановить не сумел. Пришлось немедленно бежать из Шпиталя, и рискнуть затем вернуться за очередной порцией украденного лишь через девять лет — будучи увешанным военными регалиями и при заведомом отсутствии большинства постоянных клиентов шпитальского трактира, уже умерших, состарившихся или находившихся в 1917 году на фронтах; поскольку это сошло ему с рук, то в 1918 году он и завершил всю свою операцию с извлечением сокровищ Иоганна Непомука. Явившись в августе 1908 в Вену к Кубицеку, Гитлер умолял его бежать вместе за границу — одному ему на это духа не хватало! Потом же началось его кошмарное существование в Вене: полиция действительно искала его — его должны были призывать на военную службу, но он не мог знать: разыскивают ли его только поэтому или полиция ищет его еще и в результате доноса его шпитальских собутыльников? Выяснить этого он никак не мог, не сдавшись полиции, — и предпочел скрываться. Эта история послужила ему, конечно, уроком — и явилась вполне достаточным основанием для принятия радикального решения о самоограничении потребления алкоголя. История же с Гели Раубаль стала завершением его жизненной эпопеи в этом отношении. Несомненно также и то, за что пострадала его несчастная племянница: за годы их близости (сопровождались ли они сексуальными отношениями или нет) Гитлер успел очень многое наговорить своей близкой подруге — причем абсолютно не известно, что именно: она даже могла не понимать того, какие конкретно сведения оказывались наиболее убийственными для Гитлера!.. И вот вся эта-то информация и должна была стать в случае ее замужества достоянием совершенно чужого и неподконтрольного Гитлеру человека! Гитлер не потерпел в таковом возможном качестве даже Эмиля Мориса — своего шофера и личного друга, а тут и вообще возникал какой-то виолончелист — и совершенно неважно было то, еврей он или нееврей! Хотя еврею, конечно, было бы более соблазнительно разоблачать Гитлера!.. Понятно, что Гели была обречена. Понятно и то, кто был злейшим врагом Адольфа Гитлера — он сам! Его трепливый язык вечно создавал ему трудности — притом такие, какие ему не мог бы создать никто из миллионов людей, посторонних по отношению к нему. И даже воздержание от пьянства практически не помогло Гитлеру! И это сыграло роль даже в явлениях такого масштаба, как, ни мало ни много, результат всей Второй Мировой войны! 4.3. Экскурс в будущее: 1941 год под Москвой.История Второй Мировой войны содержит массу удивительных и совершенно необъяснимых явлений. Для нас — тех, кто жил в Советском Союзе и пребывал в достаточно сознательном возрасте в первое двадцатилетие после завершения Второй Мировой войны, никаких удивительных фактов в то время просто не было. Все мы знали, что 22 июня 1941 года коварный и специально изготовившийся враг напал на миролюбивый и не помышлявший ни о каких войнах Советский Союз — и одерживал в результате этой злокозненной акции одну победу за другой, и понадобились затем героические усилия всего советского народа, чтобы переломить ход событий и завершить дело победой над Германией в самом Берлине уже в мае 1945! Потом, как раз примерно с 1964–1965 годов, на свет Божий стали выползать удивительные и таинственные факты, объяснения многим из которых не находится и по сей день. Почему, например, вообще Гитлер решился напасть на страну, обладающую подавляющей военной мощью? Ушли в прошлое легенды, объясняющие успехи Германии ее подавляющим военным преимуществом и готовностью к войне. Теперь ясно, что никакой готовности к такой войне, какая получилась, у Германии вовсе не было. Даже транспортной техники, способной перевозить людей, боеприпасы и горючее для танков и самолетов по российским грунтовым дорогам у Германии как не было, так и не появилось. Теперь известно, что танковые и моторизованные соединения Вермахта составляли ничтожную по численности его часть, а почти все завоевания, проделанные в России, осуществлялись сугубо пешими немецкими солдатами, сумевшими пройти своими собственными ногами колоссальные расстояния: в летнюю кампанию 1941 года — от западной границы тогдашнего СССР до Ленинграда, Москвы, Ростова-на-Дону и Керчи, а в летнюю кампанию уже следующего года — еще и до Сталинграда и Эльбруса. Им везло, когда их подвозили хоть на чем-нибудь! Еще 13 июля 1941 года командующий 3-й танковой группой генерал-полковник Гот докладывал личному адъютанту Гитлера: «моральный дух личного состава подавлен огромной территорией и пустынностью страны, а также плохим состоянием дорог и мостов, не позволяющим использовать все возможности подвижных соединений» — и это в разгар жаркого и сухого лета в Витебской и Смоленской областях![900] У Красной Армии, снабженной массой отечественных танков с широкими гусеницами, а позднее и американских автомобилей с большой грузоподъемностью и проходимостью, было колоссальное превосходство над немцами по меньшей мере в подвижности на российских пространствах — и на фронте, и в тылу, в особенности в осенне-зимне-весенние периоды, а с лета 1944 года и до конца войны — даже и на европейских дорогах. Вермахт же обеспечивался с начала и до конца войны в основном массой лошадиных повозок, управляемых с лета 1941 года главным образом советскими военнопленными,[901] а растянутые тыловые коммуникации немцев охранялись полицией также из военнопленных и местных добровольцев: «наиболее массовым способом использования бывших советских людей стало зачисление их в регулярные части вермахта в качестве так называемых «добровольных помощников» (Hilfswillige, или сокращенно «Хиви»). /…/ В апреле 1942 г. в германской армии числилось 200 тысяч, а в июле 1943 г. — 600 тысяч «хиви»»;[902] «численность личного состава военных формирований «добровольных помощников», полицейских и вспомогательных формирований к середине июля 1944 г. превышала 800 тыс. человек. Только в войсках СС в период войны служило более 150 тыс. бывших граждан СССР /…/»[903] — без них немцы вообще были бы не в состоянии воевать! Не было и никаких воздушных десантов немцев, наводивших ужас на советские тылы: советские люди, даже военные, не приученные еще к зенитной стрельбе, принимали за парашюты облачка от разрывов снарядов собственных зениток, постепенно опускающиеся, уносимые в сторону и медленно исчезающие в воздухе, — они повсеместно вызывали панику летом 1941 года.[904] Что касается массовой боевой техники, то преимущество Красной Армии было вполне очевидным еще до 22 июня 1941 года — как бы плохо ни работала немецкая разведка! Опубликованные через много лет после войны сведения о численности имеющейся техники свидетельствуют о подавляющем превосходстве СССР над Третьим Рейхом. К 22 июня 1941 Советский Союз располагал 24 488 боевых самолетов, а Германия — только 6 852![905] При этом также к области легенд относится подавляющее преимущество немцев в качестве авиационной техники. У немцев действительно летом 1941 года было больше самых современных к тому времени машин, но преобладающую часть их бомбардировочного парка составляли достаточно устаревшие модели: He-111, Do-17, «которые в лучшем случае ничем не лучше советских ДБ и СБ».[906] Самый эффективный немецкий самолет поля боя — пикирующий бомбардировщик-штурмовик Ju-87 с неубирающимся шасси — был просто не приспособлен к воздушным схваткам с новейшими истребителями! На фоне общего количественного преобладания советских самолетов (одних истребителей новейших моделей в Красной Армии было принято от заводов к началу войны 1956 штук[907]) техническое преимущество немцев особой роли играть не могло. Иное дело — качество подготовки летного состава и воздушного командования! Лучший боевой летчик Второй Мировой войны Ганс Рудель подавляющую часть из своих боевых вылетов (2530 исключительно на Восточном фронте[908] — за 1417 дней войны, и это — при многочисленных нелетных днях, многократных пребываниях в госпиталях и в отпусках!) совершил именно на устаревшем Ju-87! К 22 июня 1941 года Советский Союз располагал 25 479 танками, а Германия — 6 292.[909] Притом в Красной Армии было 504 танка КВ, 892 танка Т-34 и 28 штурмовых орудий СУ-5, заведомо превосходящих по боевой мощности все немецкие модели — их даже и сравнивать не с чем. У Германии же было только 613 танков Т-IV и 1806 танков Т-III (и штурмовых орудий на той те тяге), заведомо уступающих Т-34 и КВ, но близких по качеству к другим советским моделям (Т-28, БТ-7М, БТ-7), составлявшим, однако, общую численность в 5 748 машин.[910] Только внутри этого класса танков (наивысшего по силам в Вермахте), у Красной Армии было более чем двойное количественное превосходство. Прочие немецкие танки (учебные танкетки Т-I, Т-II и трофейные чешские и французские машины) соответствовали или уступали по качеству всем остальным массовым моделям советских танков (Т-26, Т-27, Т-37, Т-38, Т-40); все такие танки (и советские, и немецкие) справедливо считались устаревшими, но советские имели притом колоссальное численное преимущество. Но подавляющее число немецких машин было радиофицировано, а на тех советских, где даже имелось радио, его не включали на передачу: существовало поверие, что немцы пеленгуют каждое радиосообщение. Молва об этом ходила в советских танковых войсках даже через 20 лет после войны — можем представить живых свидетелей! В приграничных военных округах было развернуто 190 дивизий Красной Армии с 3 289 851 человеком личного состава, 59 787 орудиями и минометами, 15 687 танками и штурмовыми орудиями и 10 743 самолетами; им противостояло 166 дивизий Германии и ее союзников с 4 306 800 людьми личного состава (единственный показатель в пользу более полной отмобилизованности Германии!), 42 601 орудий и минометов, 4 171 танком и 4 846 самолетами.[911] При таком соотношении сил Германии было бы впору лишь обороняться! Немцы, однако, придерживались совершенно иной точки зрения. 25 мая 1941 года делегацию финского Генерального штаба приняли в Германии военные советники Гитлера генерал-фельдмаршал Кейтель и генерал-полковник Йодль: немцы приглашали финнов принять участие в предстоящей войне с Россией. Йодль заявил: «Я не оптимист, не думаю, что война закончится за несколько недель, но и не верю в то, что она продлится несколько месяцев».[912] И подобные оценки, казалось бы, начали сбываться. 3 июля 1941 года, на двенадцатый день войны, тогдашний начальник ОКХ генерал Франц Гальдер имел, казалось бы, все основания записать в дневник: «не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена. Огромная протяженность территории и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будут сковывать наши силы еще в течение многих недель».[913] Но это оказалось лишь началом такой войны, масштабов и ожесточенности какой никто из немцев и представить себе не мог! «11 декабря 1941 года, выступая в Рейхстаге, Гитлер сообщил цифры: за пять месяцев войны, с 22 июня по 1 декабря, захвачено и уничтожено 17 332 советских боевых самолета, 21 391 танк, 32 541 орудие, взято в плен 3 806 865 советских солдат и офицеров. Это не считая убитых, раненных и разбежавшихся по лесам. 50 лет наши маршалы и генералы объявляли эти цифры выдумками Геббельса и бредом бесноватого фюрера. Но постепенно картина прояснялась. /…/ была полностью истреблена, разгромлена и захвачена в плен вся кадровая Красная Армия. /…/ У Сталина оставались лишь резервисты /…/. Это был самый страшный и самый грандиозный разгром в истории человечества».[914] Современные данные показывают, что Гитлер в оценке советских потерь ошибался лишь в меньшую сторону: «когда Гитлер сообщил /…/, что русские потери в 10 раз больше немецких, он, к сожалению, не ошибся. К концу года общие немецкие потери на Востоке не превышали 831 тысячи человек[915]. В Красной Армии, имеющей перед войной более 25 000 танков, в декабре имелась лишь 1 731 боевая машина. При этом следует учесть, что за второе полугодие 1941 года промышленностью было выпущено еще 4 742 танка самых новейших типов, в том числе 933 тяжелых и 1 886 средних. Таким образом, общие потери составили более 28 000 танков! Уже к 10 августа люфтваффе уничтожили 10 000 советских самолетов — практически всю авиацию, располагавшуюся в приграничных округах накануне 22 июня[916], на 1 декабря в строю осталось только 2 238 самолетов. Была уничтожена или захвачена 101 тысяча орудий и минометов из примерно 117 тысяч, числившихся в РККА в начале войны. Более катастрофический результат трудно даже представить».[917] Пожалуй, еще более трагически выглядит то, что в 1941 году Красная Армия потеряла 6 миллионов 290 тысяч единиц стрелкового оружия[918] — фактически это было всеобщее и полное разоружение! «Правда, и Вермахт потерял уничтоженными и поврежденными 3 730 танков и 4 643 самолета, но большинство машин удалось вернуть в строй. Тем не менее Гитлер так и не достиг своей цели подавить советское сопротивление и выйти на линию Архангельск — Астрахань. Эта линия все еще оставалась недосягаемой для германской авиации».[919] Такой и была цена, какой оплачивали будущую победу. Конечные итоги оказались просто фантастически страшными: «Красная Армия в 1941–1945 годах потеряла погибшими на поле боя и умершими от ран, болезней и несчастных случаев 22,4 миллиона человек. Еще примерно 4 миллиона бойцов и командиров умерли в плену. /…/ Немцы же на Восточном фронте потеряли погибшими, умершими от ран, болезней, в плену и от иных причин примерно 2,6 миллионов человек. Соотношение получается 10:1 и не в нашу пользу. Кстати сказать, примерно в таком же соотношении находят трупы советских и немецких солдат наши поисковики».[920] Да, такую войну немцы выиграть не могли — такая цена им была не по плечу! К концу же войны соотношение сил на фронте приняло такие размеры: «Германский генеральный штаб сухопутных сил оценивал превосходство русских в пехоте соотношением 11:1, в танках — 7:1, в артиллерии — 20:1. Превосходство русских в авиации также было достаточно велико, чтобы обеспечить себе господство в воздухе. В целом соотношение сил было таково, что успех немецкой обороны почти исключался, даже если предположить крайнее упорство войск и искусное управление ими».[921] Это и обеспечило исход последних недель войны в Европе. Чем же объясняется столь чудовищный характер событий? Гитлер следующим образом расценивал еще предстоявшее столкновение. 5 декабря 1940 года на совещании генералитета, на котором Гитлер поставил основные задачи будущей войны с Россией, он коротко и сжато заявил: «Русский человек — неполноценен. Армия не имеет настоящих командиров».[922] Что касается первой части данного заявления, то автор книги, числя себя полноценным русским человеком, не считает этичным обсуждать этот тезис: предоставим это другим или, наоборот, обсудим в своем узком кругу без посторонних. Что же касается второй части заявления Гитлера, то, к прискорбию нашему, приходится с ним согласиться. Относительно потерь, которые понесло командование Красной Армии в результате массовых репрессий 1936–1938 годов (снизивших масштабы, но не прекратившихся до начала осени 1941 года) существуют диаметрально противоположные точки зрения. Некоторые считают, что масштабы репрессий сильно преувеличены, поскольку, дескать, в одну кучу с командирами посчитали всяких комиссаров, чекистов-особистов и прочую публику, имеющую к армейским командирам чисто формальное отношение. В то же время сами эти критики сваливают в одну кучу лейтенантов с маршалами, вычисляют процент репрессированных и приходят к выводу, что он был достаточно невысок. В армии же якобы происходило весьма интенсивное, но не сверхъестественно быстрое обновление кадров, т. е. такой процесс, какой в принципе и должен проистекать в мирное время во всякой армии, не впавшей в застой. Вполне уверенно писал об этом Виктор Суворов: «В каждой армии идет постоянный процесс смены, омоложения, обновления командного состава. Каждый год военные училища поставляют десятки тысяч новых офицеров. Но армия офицерами не переполняется. Каждый год, принимая в свои ряды одних, армия отправляет в гражданскую жизнь столько же других. Главная причина увольнения — выслуга лет. /…/ В американской, польской, болгарской, российской, украинской и любой другой армии каждый год тысячи и десятки тысяч офицеров завершают свою службу и увольняются из армии».[923] Суворов прав, но, как и обычно для этого автора, не совсем в том, о чем он конкретно пишет: возрастное обновление Красной Армии было действительно одним из главных мотивов изменений, происходивших в 1920–1935 годах. Опытные царские генералы и офицеры, занимавшие ключевые должности при Троцком (при присмотре и опеке комиссаров, среди которых преобладали революционеры царского времени), сменялись молодыми командирами: «в номенклатурной военной элите к 1930 г. было 35 (66 %) «генералов», включенных в нее с 1924 г.»[924] За 13–15 лет после Гражданской войны в Красной Армии сохранилась лишь треть командующих фронтами и армиями периода 1918–1922 годов. Из этих оставшихся более трети получили заметное понижение, как правило сопровождаемое переводом на преподавательскую работу. Остальные оказались вне армии: по разным причинам вышли в отставку или умерли; несколько человек успело погибнуть в бою, умереть от болезней или быть расстреляно за истинную или мнимую измену еще в Гражданскую войну. Эти перетасовки нередко носили и политический характер, сопровождаясь репрессиями, причем нюансы этой политической борьбы не разъяснены и по сей день: «В 1930–1931 гг. репрессиям, выразившимся в арестах, заключении на более или менее длительные сроки в тюрьмы и концлагеря, в расстрелах, подверглись многие достаточно известные, весьма авторитетные в годы Гражданской войны и в 20-е гг. «военспецы-генштабисты». /…/ Сталин отправился почти в трехмесячный отпуск с 20 июля до 14 октября 1930 г., а почти в двухмесячные отпуска — Орджоникидзе[925] и Ворошилов[926] — с 15 июля и до середины сентября 1930 г. Это чем-то напоминало бегство из столицы. Бегство «на всякий случай», из страха перед возможным «дворцовым» или «военным переворотом». В связи с возникшими опасениями и был проведен ряд мероприятий по укреплению власти. Еще 2 июня 1930 г. на должность заместителей Председателя РВС[927] СССР и наркомвоенмора вместо отставленного И. Уншлихта были назначены И. Уборевич (начальник вооружений РККА[928]) и Я. Гамарник (начальник ПУ[929] РККА), в состав РВС СССР был введен командующий УВО[930] И. Якир. Все они пользовались полнейшим доверием Сталина. /…/ 1 августа 1930 г. и.о. председателя РВС СССР и наркома был официально назначен и вступил в должность И. Уборевич».[931] М.Н. Тухачевский подозревался в принадлежности к руководящему ядру заговорщиков, но следственные мероприятия остановились на решении о его непричастности к этому делу — так постановил сам Сталин.[932] И Тухачевский снова (уже в третий или четвертый раз с 1920 года) был оставлен в качестве одной из ведущих фигур армейского руководства. Но новый состав руководства Красной Армией не просуществовал и семи лет. В 1941 году Тухачевскому, Уборевичу, Якиру и их соратникам в генеральских чинах было бы от 40 до 54 лет — возраст расцвета не для гениев, вроде Александра Македонского, а для вполне нормальных военных профессионалов. Разумеется, таланты и способности каждого были весьма индивидуальны, но не случайно же именно эти люди и составили почти полностью первые восемь десятков самых высших командиров — было из кого выбирать уже самых-самых лучших и подходящих для командования во Второй Мировой войне! Но дожить до этого никому из них не было суждено![933].. С 1936 года естественный процесс обновления армейских кадров, и до того не совсем естественный, принял совершенно неестественные формы и масштабы. Приведем итоговые данные о разгроме командования Красной Армии и Флота только в 1936–1938 годы. Мы строго ограничились данными только о «чистых» военных — строевиках и штабистах, опустив сведения о политических комиссарах, врачах, интендантах, военных инженерах, «чекистах-особистах» и т. д. Несоответствие списочной численности 1936 года числу репрессированных — не ошибка: в 1937–1938 годах происходило и присвоение более высоких званий — в том числе будущим жертвам репрессий; воинское звание репрессированных учитывалось при этих подсчетах на момент выбытия их носителей из строя; число же номинальных командных и штабных должностей в армии и флоте сохранялось в тот период приблизительно постоянным:[934] Итак, только расстреляно было 416 генералов и адмиралов — больше половины имевшихся, причем высшие (от комкора до маршала) — практически все! Раритеты типа К.Е. Ворошилова, С.М. Буденного, С.К. Тимошенко и Б.М. Шапошникова — утешение довольно жалкое! Трудно не процитировать комментарии соответствующих авторов: «Как видим, слухи о разгроме армии сильно преувеличены»![936] И еще: «если бы товарищ Сталин не ограничился полумерами, если бы не останавливался на достигнутом, не почивал бы на лаврах, а проявил бы чуть больше решительности и усердия в очищении армии, то народу, стране и самой армии от этого было бы лучше. И не упрекайте меня в кровожадности, это не я, это статистика говорит: мало товарищ Сталин их стрелял»![937] А вот противоположная точка зрения, изложенная в служебной записке маршала Г.К. Жукова от 22 августа 1944 года: «Мы не имели заранее подобранных и хорошо обученных командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями. Во главе фронтов встали люди, которое проваливали одно дело за другим (Павлов, [Ф.И.] Кузнецов, Попов, Буденный, Черевиченко, Тюленев, Рябышев, Тимошенко и др.) … Людей знали плохо. Наркомат обороны в мирное время не только не готовил кандидатов, но даже не готовил командующих — командовать фронтами и армиями. Еще хуже обстояло дело с командирами дивизий, бригад и полков. На дивизии, бригады и полки, особенно второочередные, ставились не соответствующие своему делу командиры… Каждому из нас известны последствия командования этих людей и что пережила наша Родина, вверив свою судьбу в руки таких командиров и командующих».[938] Впрочем, Жуков для Суворова — не авторитет!.. Еще недавно автор этих строк сам считал именно гибель этого генералитета основной причиной невероятного снижения качества командования Красной Армии, пришедшегося на время Второй Мировой войны.[939] Однако в самые последние годы автору случилось ознакомиться с мнениями некоторых военных профессионалов, высказанных в частных беседах. Один из них (отставной полковник Генерального штаба, естественно — не выбившийся в генералы!) объяснял характер работы высших штабов таким примерно образом: капитаны решают конкретные задачи, майоры увязывают решения капитанов в единое целое, подполковники уясняют общее разработанное решение, полковники правильно докладывают его выше, а генералы грамотно расписываются в тех местах, которые им указывают!.. Даже если в такой картине содержатся некоторые передержки, то все равно, так или иначе, достаточно ясно, что эффективность работы штаба зависит, прежде всего, от грамотности, профессионализма и слаженности всего его офицерского состава. Репрессии же 1936–1939 годов (и в армии, и в гражданском секторе) осуществлялись по кустовому принципу: за каждым арестованным врагом народа тянулся шлейф из его ближайших родственников, знакомых и, главное, сослуживцев. Вместе с пятью сотнями репрессированных генералов и адмиралов сажались и увольнялись из армии их ближайшие подчиненные. А кто ближайшие подчиненные у командира? Такие же командиры, но уже более низкого уровня, а также — штабисты из его штаба. Это и соответствует известному общему числу вычищенных из армии и флота офицеров в размере около 20 тысяч человек, что и сочтено авторитеными специалистами по армейской истории в качестве достаточно невысокого процента репрессированных: подумаешь — уволено по политическим мотивам или репрессировано 16 584 человека из 206 тысяч![940] На деле же пять сотен арестованных генералов и адмиралов означали приблизительно пять сотен полностью разгромленных и парализованных штабов, а это — практически все штабы частей и соединений в армии и флоте, поскольку военные, даже не подвергшиеся непосредственным репрессиям, вынужденно перемещались для занятия освободившихся должностей — это, кстати, создавало колоссальный стимул для писания доносов на коллег и начальство! Все строевики и все штабисты, таким образом, поднимались на новые должности, на две-три ступеньки выше прежних; были ли эти прежние ранее освоены ими вполне профессионально — это тоже можно предполагать с известной натяжкой. Таким образом, контингент работников всех штабов замещался накануне 1941 года людьми, не имевшими никакого опыта работы на тех конкретных должностях, на которых они оказались к началу войны, а также, что немаловажно, как правило не имевших и ни малейшего опыта работы друг с другом. Причем устоявшаяся доносительская система не способствовала и установлению сугубо человеческих, личных контактов, а без этого невозможна никакая служебная спаянность. Все это возникало позднее — среди уцелевших уже в ходе самой войны. И офицерский и генеральский корпус уже после войны снова был достаточно сплоченной и организованной силой, с которой приходилось считаться и Сталину, и его преемникам. При этом именно в годы репрессий были разработаны «мирные» планы дальнейшего расширения армии. «К концу 1937 года в Наркомате обороны был разработан план развития и реорганизации РККА на третью пятилетку (1938–1942 годы). 27 ноября 1937 года этот план был представлен руководителям партии и правительства. Через день он был утвержден»[941] — чего там долго думать! В ходе этой реформы предполагалось достичь таких показателей: «Общая численность РККА по мирному времени с учетом всех организационных мероприятий должна была составить: — на 1 января 1938 года — 1 606 520 человек; — на 1 января 1939 года — 1 665 790 человек; — на 1 января 1943 года (по завершению всей программы) — 1 780 000 человек. На военное время численность Вооруженных Сил первой очереди определялась в 6 503 500 человек против 5 800 000 человек по ранее действовавшему плану»; все это, заметим, — включая численность флотского состава.[942] Но действительность опрокинула все эти жалкие планы! В мирный для Советского Союза день 20 сентября 1939 года Красная Армия насчитывала 5 289 400 человек, в мирный день 1 апреля 1940 года — 4 355 669 человек, в мирный день 1 июня 1940 года — 4 055 479 человек,[943] а в мирный день 21 июня 1941 года — 5 080 977 человек,[944] и все это — не считая численности флотского состава![945] Сколько же средств стоило обнищавшей и полуголодной стране годами содержать воинство такого размера? И, главное, сколько же подготовленных командиров требовалось такой орде? Маршал Ворошилов докладывал 29 ноября 1938 года: «В ходе чистки в Красной Армии… мы выдвинули более 100 тысяч новых командиров».[946] Дальше — больше: «только за 1938–1940 гг. армия получила 271,5 тыс. офицеров»![947] Но это были волки, готовые грызть друг друга, но никак не военные профессионалы, занимающие подходящие им должности! Вот им-то и предстояло руководить войсками, они и наруководили! Все это было прекрасно известно и понятно всем военным профессионалам во всех остальных армиях мира. Война СССР с Финляндией зимой 1939–1940 годов продемонстрировала полнейшее убожество советского командования на виду всего света. Вот как об этом писал сам главнокомандующий Финской армией маршал Маннергейм (до 1917 года — генерал-лейтенант Русской армии): «Начальствующий состав русской армии представляли люди храбрые, обладающие крепкими нервами, их не очень беспокоили потери. Для верхних «этажей» командования были характерны нерасторопность и беспомощность. Это находило отражение в шаблонности и ограниченности оперативного мышления руководства. Командование не поощряло самостоятельного маневрирования войсковых подразделений, оно упрямо, хоть тресни, держалось за первоначальные планы. Русские строили свое военное искусство на использовании техники, и управление войсками было негибким, бесцеремонным и расточительным. Отсутствие воображения особенно проявлялось в тех случаях, когда изменение обстановки требовало принятия быстрых решений. Очень часто командиры были неспособны развить первоначальный успех до победного финала. /…/ Русский пехотинец храбр, упорен и довольствуется малым, но безынициативен. В противоположность своему финскому противнику он привык сражаться в массах. /…/ В истории войн можно встретить лишь редкие примеры такого упорства и стойкости, да и они были показаны древними народами».[948] Поэтому к лету 1941 года на Красную Армию существовало два противоположных взгляда: Сталин, его ближайшие помощники и многие командиры Красной Армии считали, что она полноценно существует, а специалисты в других странах считали, что ее попросту нет; исходя из этого немцы, в частности, и строили свои планы на войну! Истина, как это нередко бывает, оказалась где-то посредине — это и определило реальный ход и исход войны. «Россия никогда не была такой сильной, какой ее считали сами русские, но она не была и такой слабой, какой ее представляли враги» — отмечал постфактум Уинстон Черчилль;[949] себя он тоже должен был бы причислить к упомянутым врагам! При этом, как оказалось, виднейшие руководители Вермахта, включая Гитлера, даже и представить не могли себе, какого же низкого качества была работа высших штабов Красной Армии — даже через три с половиной месяца после начала военных действий. Но именно поэтому лично Гитлер и проиграл Вторую Мировую войну осенью 1941 года, когда ее исход казался еще очень и очень неопределенным! 3 октября 1941 года Адольф Гитлер выступил в Рейхстаге со знаменитой речью, в которой заявил, что под Москвой развернуто наступление немецких войск, равного которому по силам не знает мировая история — «противник уже сломлен и никогда больше не поднимется»![950] 30 сентября началось вспомогательное наступление немцев на Брянский фронт (командующий — тогда генерал А.И. Еременко), а накануне речи Гитлера — 2 октября — генеральное наступление с целью охвата и окружения всех советских войск, оборонявших Москву: целиком двух фронтов — Западного (командующий — тогда генерал И.С. Конев) и Резервного (командующий — маршал Буденный). Двухступенчатое начало операции «Тайфун»[951] диктовалось стремлением использовать в каждом из ударов все силы немецкой авиации, сосредоточенной на московском направлении. У немцев во 2-м воздушном флоте под командованием генерал-фельдмаршала Альберта Кессельринга было собрано для этого 1320 самолетов (720 бомбардировщиков, 420 истребителей, 40 штурмовиков и 140 разведчиков).[952] Им противостояли 1368 советских самолетов (578 бомбардировщиков, 688 истребителей, 36 штурмовиков, 46 разведчиков).[953] Формально «силы ВВС[954] Красной армии на московском направлении практически не уступали противнику».[955] Но это — только формально. И основное различие было не в качестве самолетов, а в качестве командования. Вместо единого «кулака», как у немцев, советские самолеты московского направления имели не одного, а минимум пять «хозяев»: три командования ВВС трех названных фронтов, командование Дальней бомбардировочной авиации и командование ВВС ПВО[956] Московской зоны обороны. Причем ВВС ПВО, как будет рассказано ниже, вступили в борьбу под Москвой лишь 5 октября (а это — 423 истребителя и 9 разведчиков[957]), а дальние бомбардировщики (368 машин[958]) — еще того позднее! Командование же сухопутными войсками Красной Армии и вовсе утратило руководство собственными войсками. Положение Красной Армии оказалось действительно ужасным — ужасным настолько, что этого даже не знали в Москве: связь со штабами фронтов и армий рухнула так внезапно и сразу, что о начавшемся 2 октября наступлении немцев первыми узнали не генштабисты и не разведчики, а политработники тылового Московского военного округа (МВО) — только из прямой открытой радиотрансляции речи Гитлера.[959] Целая ночь потом у них ушла на то, чтобы сделать перевод речи и вручить его непосредственному начальству, которое всполошилось — но не сразу. Спасителем Москвы оказался, тем не менее, вопреки сложившимся легендам, не Сталин и не Жуков, а генерал (тогда — дивизионный комиссар) К.Ф. Телегин — член Военного совета (т. е. политический комиссар) МВО, замещавший в тот момент командующего округом, генерала П.А. Артемьева, выехавшего в район Тулы, оказавшейся в угрожаемом положении — о чем ниже. Телегин рассказывает: «в Генеральном штабе сообщили, что еще 27 сентября Ставка предупредила командование Западного, Резервного и Брянского фронтов о возможном наступлении противника в ближайшие дни на Московском направлении и потребовало приведения войск в полную боевую готовность /…/. Первая тревожная весть поступила в ночь на 1 октября. На участке Брянского фронта противник крупными силами начал наступление. /…/ З октября случилось непредвиденное: противник ворвался в Орел. Над Тулой нависла непосредственная угроза. /…/ Все внимание Ставки теперь сосредоточивалось на Орловско-Курском направлении, куда спешно перебрасывалась с Вяземского рубежа 49-я армия под командованием генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина. /…/ Связаться по телефону со штабами Западного и Резервного фронтов все еще не удавалось, не возвращались и наши два офицера связи, а радиосвязи штаб округа не имел [!!!]. Часов в 8 утра 4 октября неожиданно зашел ко мне бригадный комиссар Н.М. Миронов. /…/ он /…/ сказал: — Вот вам речь Гитлера, произнесенная вчера по радио, перевод которой сделал переводчик Политуправления Янов. Прочтите не откладывая, и может быть, что-нибудь будет более ясно. /…/ я /…/ стал читать: «…Началась новая операция гигантских размеров. Враг уже разбит и никогда больше не восстановит своих сил…» Что это — очередной бред фюрера? Где это началась операция «гигантских размеров»? Под Брянском? Не похоже. Где же? Ко мне только что заходил майор Н.Г. Павленко из оперативной группы штаба МВО[960] с утренней информацией и ни о какой операции «гигантских размеров», тем паче о «разгроме» наших сил не было речи. На Брянском фронте положение действительно оставалось тяжелым. /…/ Тула под угрозой, но известно, что Ставка принимает энергичные меры по ее защите. Решил все же позвонить дежурному по Генштабу. Получил успокаивающий ответ о положении на Западном и Резервном фронтах. /…/ На других участках фронта серьезных изменений за ночь не произошло. Что же это все могло значить? Для чего Гитлеру понадобилось выступать с такой ложью на весь мир? К какому-либо выводу мы с Мироновым так и не пришли. /…/ были тревожные сигналы — прервалась связь с главным постом ВНОС[961] Западного фронта. Сбытов[962] сообщил, что его летчики за вчерашний день в зоне барражирования ничего подозрительного не отметили. Проверка по всем линиям не давала оснований верить в начавшееся «гигантских масштабов» наступление, а если это относилось к наступлению на участке Брянского фронта, то тут Гитлер, видимо, потерял представление о масштабах современных операций или выдавал желаемое за действительное. /…/ Ночь с 4 на 5 октября показалась мне какой-то нескончаемой, утомительной и тревожной».[963] Наступило утро воскресенья 5 октября 1941 года — пошли уже четвертые сутки с начала наступления немцев гигантского масштаба — безо всяких кавычек! Телегин продолжает рассказ: «Обычно в 8.00 заходили кто-нибудь из работников оперативной группы или начальник штаба И.С. Белов с оперативной справкой о событиях на фронте за ночь. Сегодня зашел Белов. Он доложил, что за прошедшую ночь событий особой значимости не произошло, однако проводная связь НКО[964] со штабами Западного и Резервных фронтов все еще не восстановлена и переговорить по телефону с кем-либо из оперативного отдела штаба ему не удалось. На Брянском фронте положение не совсем ясное, связь Генерального штаба со штабом фронта крайне неустойчива, сведения поступают с большим опозданием. Южнее Брянска идут тяжелые бои /…/. Наши войска успешно отражают танковые атаки. Доклад окончен. Задав несколько уточняющих вопросов, я отпустил Белова. /…/ В десятом часу утра поступил первый тревожный сигнал с запада. Начальник оперативного отдела опергруппы [штаба МВО] полковник Д.А. Чернов, находившийся в Малоярославецком укрепленном районе, по телефону доложил, что рано утром задержаны повозки, автомашины из тылов 43-й армии, отдельные военнослужащие, которые сообщили, что немцы начали большое наступление, некоторые дивизии попали в окружение, идут сильные бои. У противника много танков, беспрерывно бомбит авиация… Под свежим впечатлением доклада Белова поверить этому было невозможно. Похоже было, что это просто паникеры, которым что-то померещилось или их спровоцировала вражеская агентура. Поэтому Чернову было дано указание передать задержанных в Особый отдел, на дорогах выставить заставы и останавливать всех беглецов, если они появятся, а на Спас-Деменск выслать на автомашине разведку. Но оставлять это без внимания было нельзя. /…/ Позвонил /…/ Сбытову: — Николай Александрович, вылетали ли с утра самолеты на барражирование зоны и что летчики наблюдали? — Облет зоны в восемь ноль ноль ничего не дал, — ответил он. — На дороге от Спас-Деменска через Юхнов на Медынь отмечено движение отдельных групп военных и гражданских автомашин, повозок и колонны артиллерии до полка. К фронту и от фронта движения не отмечено. /…/ — Прошу вас, Николай Александрович, без промедления поднять повторно в воздух два-три самолета, тщательно просмотреть направления Юхнов — Спас-Деменск — Рославль и Сухиничи — Рославль и немедленно доложить обо всем замеченном. Сообщения /…/ Сбытова и телефонные разговоры с рядом центральных военных и гражданских учреждений несколько сгладили тревогу, вызванную сообщением Чернова. Все как будто говорило о том, что пока ничего тревожного и опасного с этого направления нам не угрожает».[965] Полдень 5 октября: «раздался телефонный звонок. /…/ услышал взволнованный голос /…/ Н.А. Сбытова: — Товарищ член Военного совета! Только что из Люберец[966] доложили, что летчики обнаружили движение танков противника со стороны Спас-Деменска на Юхнов!.. — Не может быть! — усомнился я. — Немедленно зайдите ко мне… Не уверенный еще в точности этого сообщения и не желая преждевременно создавать нервозную обстановку в штабе, попросил посетителей покинуть кабинет. /…/ Он [Сбытов] буквально влетел в кабинет. /…/ Он подтвердил, что обнаружена колонна танков и мотопехоты противника протяженностью до 25 километров; летчики прошли над ней на небольшой высоте, ясно видели фашистские кресты на танках и были обстреляны из зенитных пулеметов и мелкокалиберной зенитной артиллерией. — Кто летал? Надежные ли люди? Действительно ли снижались до малой высоты и не приняли ли за противника наши части, совершающие какой-то маневр? Сбытов /…/ даже несколько обиделся /…/ и подчеркнуто решительно заявил: — Нет! Разведку выполняли опытные и обстрелянные летчики 120-го истребительного полка Дружков и Серов, люди мужественные, и я им верю. Вера командующего в своих людей мне понравилась. /…/ однако сообщенный ими факт был совершенно неожиданным и имеющим чрезвычайно важное значение не только для Москвы, но и для всей нашей Родины. И я без утайки высказал Николаю Александровичу свои сомнения. Но Сбытов стоял на своем. Оставалось лишь еще раз запросить Генеральный штаб. /…/ Ответил дежурный генерал. — Каково положение на Западном фронте? — спросил я его. — От штабов Западного и Резервного фронтов новых данных не поступало, — услышал в ответ голос дежурного. Можно было бы и удовлетвориться этим, но, как ни странно, именно спокойный голос дежурного вызвал какую-то щемящую тревогу. Что, если он просто плохо информирован, если такие важные сведения поступают непосредственно к начальнику Генштаба и были известны лишь узкому кругу лиц? Прошу соединить меня с маршалом Б.М. Шапошниковым[967]. Докладываю о том, что сделано по заданию Генштаба, а затем спрашиваю о положении на Западном фронте. Борис Михайлович немного приглушенным, мягким голосом отвечает: — Ничего, голубчик (это любимое выражение Бориса Михайловича), ничего тревожного пока нет, все спокойно, если под спокойствием понимать войну. Меня буквально бросило в жар от мысли, что чуть было не подняли ложной тревоги. /…/ Мне хорошо было известно твердое правило, записанное в Полевом уставе, обязывающее каждого командира, прежде чем докладывать о каком-либо событии, новые сведения о противнике, убедиться, что это действительно так, и принять соответствующие меры. /…/ Здесь же речь шла о событиях величайшей важности, и преступен был бы тот командир или политработник, который, не убедившись в правдивости первого сообщения, ударил бы в набат. Николаю Александровичу Сбытову ставлю задачу — немедленно послать в повторную разведку лучших летчиков /…/.»[968] Поясняем: на 1 октября 1941 фронт отстоял примерно на 300 километров к западу от Москвы — достаточно прямолинейно с севера на юг. Теперь же немецкие танки обнаружились менее чем в двух сотнях километров к юго-западу от Москвы — и главное было в том, что между ними и Москвой уже не было практически никаких войск Красной Армии! Поэтому Телегин, не дожидаясь результатов очередной воздушной разведки, призадумался о том, как же теперь спасать Москву: «Единственной реальной силой на сегодня-завтра-послезавтра остаются части ПВО, военные училища и академии. Ближе всего к врагу Подольские пехотное и артиллерийское училища, в лагерях — Военно-политическая академия имени Ленина и Военно-политическое училище имени Ленина. Все это — цвет нашей армии, завтрашние комиссары, политруки, командиры, фронт в них крайне нуждается, ждет. Однако, если потребуется, они грудью своей закроют врагу дорогу на Москву. Это самая крайняя мера, но другого выхода на какое-то время нет».[969] Вот что, например, представляло собой Подольское пехотное училище: «В училище четыре батальона, общей численностью до 2500 человек, и только три роты 2-го батальона в 370 человек с пятимесячным сроком обучения. На днях они должны стать командирами. 4-й батальон — с месячным сроком, 1-й и 3-й — сентябрьского набора, исключая 1-ю и 2-ю роту, имеющих курсантов-инструкторов, прошедших пятимесячное обучение. На вооружении — винтовки, двадцать три станковых пулемета, по восемь ручных пулеметов и девять 82 мм минометов на батальон. Кроме того, есть учебная батарея 45 мм пушек. Ручных гранат — по две на курсанта, противотанковых — двести сорок штук на училище, автомашин — десять».[970] Телегин немедленно принял меры к подъему училищ по тревоге; начать пришлось с розыска их начальства, отсутствовавшего по случаю выходного дня.[971] В ближайшие дни почти все эти мальчишки вместе со своими командирами должны были погибнуть, грудью своей закрывая врагу дорогу на Москву. Телегин продолжает: «около 14 часов Сбытов быстро вошел в кабинет и доложил: — Летало три боевых экипажа. Прошли над колоннами бреющим полетом под сильным зенитным огнем. Имеют пробоины. При снижении самолетов пехота выскакивала из машин и укрывалась в кюветах. Голова танковой колонны в пятнадцати-двадцати километрах от Юхнова. Сомнений не может быть, товарищ член Военного совета, это враг, фашисты. Теперь уже нельзя было не поверить. Надо было позвонить Б.М. Шапошникову. Еще раз набираю номер. Спрашиваю: — Борис Михайлович (как-то в разговоре он сам просил так к нему обращаться), не поступало ли к вам каких-нибудь новых данных о положении на Западном фронте? Это было воспринято маршалом уже с неудовольствием… Разговор был коротким. Решил не докладывать данные авиаразведки, а еще в третий раз их проверить. Снова поднимаются в воздух лучшие летчики и их командиры. С риском для жизни проходят над колонной раз и другой. /…/ Было что-то около 15 часов, когда Сбытов доложил: — Товарищ член Военного совета, данные подтвердились — это фашистские войска. Голова танковой колонны уже вошла в Юхнов. Летчики были обстреляны, среди них есть раненые. Теперь уже [!!!] промедление было недопустимо, надо докладывать. Прошу дежурного срочно соединить с маршалом Шапошниковым. Телефон свободен, маршал у себя в кабинете. Веря, что Генштаб уже получил данные о случившемся, я обратился к маршалу все с тем же вопросом: — Борис Михайлович, каково положение на Западном фронте? В трубке послышался недовольный голос: — Послушайте, Телегин, что значат ваши звонки и один и тот же вопрос? Не понимаю, чем это вызвано? Я твердо, насколько позволяло волнение, доложил обо всем, что мне было известно. В трубке на несколько секунд воцарилось молчание. — Верите ли вы этим данным, не ошиблись ли ваши летчики? — Нет, не ошиблись, — твердо ответил я. — За достоверность сведений отвечаю, за летчиков ручаюсь… — Мы таких данных не имеем, это невероятно… — и длинный протяжный гудок, воспринятый мной в ту минуту как вой сирены воздушной тревоги. Через 3–4 минуты вновь зазвонил телефон. Поднимаю трубку, слышу: — Говорит Поскребышев[972]. Соединяю вас с товарищем Сталиным. Проходит несколько секунд, и хорошо знакомый, низкий, немного сипловатый голос: — Телегин? — Так точно, товарищ Сталин. — Вы только что докладывали Шапошникову о прорыве немцев в Юхнов? — Да, я, товарищ Сталин. — Откуда у вас эти сведения и можно ли им доверять? — Сведения доставлены лучшими боевыми летчиками, дважды перепроверены и достоверны… — Что предприняли? Подробно доложил о подъеме по боевой тревоге Подольских училищ, приведении в боевую готовность Военно-политического училища, академии имени Ленина и о других принятых мерах. Сталин внимательно выслушал, одобрил /…/. — Действуйте решительно, собирайте все, что есть годного для боя. На ответственность командования округа возлагаю задачу во что бы то ни стало задержать противника на пять-семь дней на рубеже Можайской линии обороны. За это время мы подведем резервы Ставки. Об обстановке своевременно докладывайте мне через Шапошникова… Положив трубку, я тяжело опустился в кресло. Сознание, что сигнал тревоги воспринят Верховным главнокомандующим, сняло нервное напряжение. Его требование «действуйте решительно… во чтобы то ни стало задержать противника на пять-семь дней» заставило побороть слабость. Надо было действовать. /…/ Для округа наступило время, не предусмотренное ни положениями, ни структурой, ни мобилизационными планами. Округ принимал на себя всю ответственность перед партией, правительством, перед всем народом за предотвращение столь неожиданно нависшей над Москвой грозной опасности».[973] В последующие часы и даже более суток Телегин оставался единственным действующим военачальником в Москве: у остальных почти не было никаких подчиненных им частей, а связь с фронтами как была потеряна, так и не возникала. Недаром с 16 часов 5 октября Телегину регулярно звонил генерал М.Н. Шарохин, заместитель начальника Оперативного управления Генштаба: справиться о новостях — больше ему их узнавать было неоткуда![974] У Телегина же появлялось, что рассказывать. Как раз в 16 часов вышел на связь полковник Чернов, от которого ничего не было слышно с 10 часов утра. Он доложил: «Танки и мотопехота противника заняли Юхнов. Отходят разрозненные подразделения Резервного фронта. Подошел и 54-й ГАП (гаубичный полк) без снарядов и горючего, прожекторный батальон». Телегин распорядился: «Всех отходящих военнослужащих задерживать, формировать роты, батальоны и ставить на рубеж. Командиров и политработников пришлем из резерва. Доносить чаще. По боевой тревоге подняты Подольские училища. Им приказано в спешном порядке выходить на Ваш рубеж и занять оборону по Вашему приказу».[975] Несомненна заслуга Телегина в том, что с утра 4 октября он был единственным начальником в Москве, знавшим о выступлении Гитлера и пытавшимся понять, на чем же оно основывалось. С утра 5 октября он уже подключил к этому делу других руководителей — прежде всего Сбытова. Так или иначе, но Телегин лично подарил всем защитникам Москвы сутки или двое на подготовку, подняв тревогу тогда и так, когда и как он это совершил. Если бы он этого не сделал, то это сделал бы кто-нибудь другой, но это уже произошло бы существенно позднее. Ведь Телегин обладал прямой связью с Генштабом, наркоматом Обороны и прочими командными инстанциями — практически, как оказалось, — вплоть до Сталина! Все же прочие военные, способные поднять тревогу (возможно — многие и пытались!) такой связи не имели! И кто знает, каким стал бы тогда результат битвы за Москву. Поэтому Телегин, на наш взгляд, вполне заслужил титул спасителя Москвы, если бы он присваивался по совести и по заслугам какому-либо одному человеку! С вечера же 5 октября и многие другие присоединились к выяснению обстановки и принятию всех необходимых возможных мер, но и тут какое-то время Телегин оставался среди главных организаторов обороны Москвы. А ведь заканчивались уже четвертые сутки с начала операции «Тайфун»! Но Телегин явно ошибался, если считал, что и Сталин уже в это же время целиком включился в решение неотложных задач по обороне! Похоже, однако, что мысли Сталина потекли сначала несколько в ином направлении! Вместо красочной истории, поведанной нами, опубликованной в единственной книге, по сей день практически игнорируемой специалистами, нам теперь рассказывают следующие байки: «Вечером 4 октября командующий Западным фронтом И.С. Конев доложил И.В. Сталину «об угрозе выхода крупной группировки противника в тыл войскам». На следующий день аналогичное сообщение поступило от командующего Резервным фронтом С.М. Буденного. Семен Михайлович доложил, что «образовавшийся прорыв вдоль Московского шоссе прикрыть нечем».»[976] Здесь нет ссылок на первоисточники, и похоже, что все это кем-то придумано. Очень уж эти сообщения противоречат и истории, рассказанной Телегиным, и нижеследующей истории, рассказанной Г.К. Жуковым. Может быть, эти истории придуманы Коневым и Буденным, причем возможно — даже независимо друг от друга. Очень уж им было не с руки признаваться, что они сутками сидели на своих командных пунктах, не имея связи ни с собственными армиями, ни друг с другом, ни с Генеральным штабом — и ничего не делали! Возможно при этом, они и отсылали цитированные сообщения, но те не доходили до адресата. А возможно и совсем иное: ни Конев, ни Буденный вовсе не врут, и Сталин действительно получал их сообщения (причем оказывается прав и Телегин, подозревавший, что какая-то информация может гулять по верхам — без уведомления нижестоящих начальников), но реагировал таким образом, что и у Конева, и у Буденного (имевших, в отличие от Телегина, к октябрю 1941 уже немало собственных поражений и на полях сражений, и в служебных кабинетах!) не возникало никакого стремления развивать и уточнять информацию, отсылаемую к Сталину! Факт тот, что Сталин поначалу крайне недоверчиво отнесся и к сообщению Телегина, о чем последний был уведомлен несколько неожиданным и непрямым путем. Телегин рассказывает: вскоре после звонка Сталина «впервые по телефону я услышал голос Берия, он являлся тоже членом Военного совета округа, где еще ни разу не появился. Он резко и сухо задал вопрос: — Откуда вы получили эти сведения, кто вам их сообщил? Рассказываю все по порядку. /…/ — Слушайте, что вы принимаете на веру всякую чепуху? Вы, видимо, пользуетесь информацией паникеров и провокаторов… Пришлось убеждать Берия, что сведения точные и доставили их летчики, заслуживающие полного доверия. — Кто вам непосредственно докладывал эти сведения? — Командующий ВВС округа полковник Сбытов. — Хорошо… Ни резкому тону разговора, ни тому, как было сказано это «хорошо», я не придал особого значения — время суровое, не до обмена любезностями. «В такой обстановке всяко бывает», — решил я и занялся делами, которых все прибавлялось и каждое было первоочередным».[977] Но уже одно из первоочередных дел повергло Телегина в шок: «Поступил сигнал, что на аэродромы кто-то передал приказание не поднимать самолеты для бомбежки противника, по распоряжениям Военного совета и командующего ВВС МВО. Звоню Сбытову, но комиссар В.Д. Лякишев докладывает, что больше часа тому назад Сбытов вызвал машину и спешно выехал. Куда? Никто не знает. Это меня вывело из равновесия. /…/ Я не мог понять, как мог так поступить дисциплинированный командир, получивший боевую задачу приготовить к вылету бомбардировочную и штурмовую авиацию. Оставить боевой пост, не доложив старшим начальникам и не поставив в известность своих ближайших помощников о месте своего местонахождения, недопустимо в военной жизни вообще и особенно в такой критический момент. Выводы напрашивались самые неприятные. Наконец около 18 часов поспешно вошел в кабинет Николай Александрович Сбытов. Не говоря ни слова, трясущейся рукой подает написанную неровным почерком бумагу. Читаю: «Военному Совету МВО. Прошу сегодня же освободить меня от должности командующего ВВС МВО и отправить на фронт рядовым летчиком. Командовать ВВС округа больше не могу. Полковник Н. Сбытов». С изумлением смотрю на него, ничего не понимаю».[978] Сбытов, оказывается, был вызван к В.С. Абакумову — начальнику Особого Отдела (позже — «Смерш») Красной Армии в 1941–1946 годах. Рассказ Сбытова: «Когда я вошел в кабинет к Абакумову, он резко бросил мне: — Откуда вы взяли, что к Юхнову идут немецкие танки? — Это установлено авиационной разведкой и дважды перепроверено. — Предъявите фотоснимки. — Летали истребители, на которых нет фотоаппаратов, но на самолетах есть пробоины, полученные от вражеских зениток. Разведка велась с малой высоты, летчики отчетливо видели фашистские знаки на танках. — Ваши летчики трусы и паникеры, такие же, по-видимому, как и их командующий. Предлагаю вам признать, что вы введены в заблуждение, что никаких танков в Юхнове нет, что летчики допустили преступную безответственность, и вы немедленно с этим разберетесь и сурово их накажете. — Этого сделать я не могу. Ошибки никакой нет, летчики боевые, проверенные и за доставленные ими сведения я ручаюсь. — А чем вы можете подтвердить такую уверенность, какие у вас есть документы? — Прошу вызвать командира 6-го авиационного истребительного корпуса ПВО полковника Климова, он, вероятно, подтвердит. Абакумов тут же приказал вызвать Климова и до его прибытия меня отослал в приемную /…/. Прибыл Климов, вместе с ним вновь вхожу в кабинет. — Чем можете подтвердить, что летчики не ошиблись, сообщив о занятии танками противника Юхнова? — обратился Абакумов к Климову. — Я такими данными не располагаю. Летали летчики округа. Тогда я попросил вызвать начальника штаба корпуса полковника Комарова с журналом боевых действий, рассчитывая, что в журнале будет записано это, так как происходило уже в зоне Московского ПВО. Комаров прибыл и, так же как и Климов, заявил, что работу летчиков ВВС МВО корпус не учитывает и в журнал боевых действий не заносит. Абакумов, повернувшись ко мне, раздраженно сказал: — Идите и доложите Военному совету округа, что вас следует освободить от должности как не соответствующего ей и судить по законам военного времени. Это наше мнение».[979] Заметим, что оба авиационных полковника, сидевших на генеральских должностях, наверняка могли бы чем-то помочь Сбытову — иначе бы он не старался привлечь их на помощь, но они держали себя строго в рамках славных традиций, заложенных еще в 1937 году, и хорошо еще, что не старались добить коллегу! Телегин, бывший в эйфории после одобрения со стороны Сталина, ринулся на защиту Сбытова. Сам Телегин был и молодым (родился в 1899 году), и бывалым воякой и тертым аппаратчиком — с 1918 года участвовал в Гражданской войне, остался затем в кадрах Красной Армии, окончил в 1931 году Военно-политическую академию, служил с 1936 года политработником в пограничных войсках, а с 1940 — в политуправлении войск НКВД: «я тут же соединился с секретарем ЦК[980], доложил ему о только что услышанном от Николая Александровича. Секретарь попросил передать Сбытову, чтобы он остался на своем посту и делал все возможное для нанесения имеющимися силами авиации чувствительных ударов по врагу, а с Абакумовым обещал поговорить сам. Я постарался успокоить Сбытова, рапорт предложил порвать и не думать больше об этом печальном эпизоде, а лишь о том, как лучше использовать авиацию и задержать врага. В частности побыстрее уничтожить мост через Угру и тем самым выиграть необходимое время до выхода Подольских училищ».[981] Ввиду очевидности развития событий в последующие дни Абакумов, естественно, молчаливо «забыл» про Сбытова и его грехи — тем более при наличии влиятельных заступников и свидетелей. «После ухода Сбытова я по-настоящему оценил свой разговор с Берия /…/ и понял, кто приостановил исполнение авиачастями боевых приказов командующего ВВС и Военного совета округа».[982] Заметим, что последнее решение Берии и правомочно, и разумно: он был таким же членом Военного совета МВО (помимо других его высших должностей: заместитель председателя Государственного Комитета Обороны — ГКО, заместитель председателя Совнаркома СССР, нарком НКВД и т. д.), как и Телегин, а бомбить транспортные колонны, если Берия был уверен, что они не могут быть немецкими, было бы и глупостью, и преступлением. Вот только интересно: почему и Берия, и Абакумов и, по-видимому, Сталин были в этом так уверены? Телегину, кстати, быстро объяснили, насколько опасным оказалось его личное положение в силу того, что в октябре 1941 года он оказался умнее и Сталина, и Берии, и Абакумова. Телегин тут же, еще вечером 5 октября, получил выволочку — и не от кого-нибудь, а от самого Сталина: «в 18 часов 15 минут последовал звонок И.В. Сталина. /…/ — Телегин? Вы сообщили Шапошникову, что танки противника прорвались через Малоярославец?[983] — Да, я, товарищ Сталин. — Откуда у вас эти сведения? — Мне доложил из Подольска помощник командующего по ВУЗам[984] комбриг[985] Елисеев со слов коменданта автодорожного участка. Связи с Малоярославцем нет, и я приказал ВВС немедленно послать самолеты У-2 и истребители для перепроверки, а также произвести проверку по постам ВНОС… — Это провокация. Прикажите немедленно разыскать этого коменданта, арестовать и передать в ЧК[986], а вам на этом ответственном посту надо быть более серьезным и не доверять всяким сведениям, которые приносит сорока на хвосте. — Я, товарищ Сталин, полностью этому сообщению не доверял, немедленно принял меры перепроверки и просил генерала Шарохина до получения новых данных Ставке не докладывать. Комбригу Елисееву приказано немедленно выступить из Подольска с передовым отрядом на Малоярославец. — Хорошо. Но впредь такие сведения надо проверять, а потом докладывать. Разговор был короткий, но самочувствие такое, как будто ошпарили кипятком. Конечно, командование тылового округа, далеко отстоящее от руководства боевой деятельностью на фронте, не имело юридического и морального права говорить первым о том, что в глубоком тылу фронтов появился враг и идет на Москву. Первыми это должны были сказать командования фронтов, но они не говорили. И надо было дважды, трижды проверить сообщения и только тогда докладывать. Урок крепко запомнил».[987] Телегин, как можно понять, достаточно хорошо все сообразил. Поэтому позднее он стал искать покровителя повлиятельнее — и остановился на маршале Жукове. Эпизод свидетельствует и о том, что Сталин уже располагал какими-то собственными источниками информации, отличными от телегинских: от Юхнова немецкие танки развернулись на север — отсекая войска Резервного и Западного фронтов, а Малоярославец (к северо-востоку от Юхнова) был занят немцами только 17 октября 1941.[988] Заметим при этом, что никто в Москве (ни Сталин, ни Телегин, ни Генштаб) не располагали в это время никакими сведениями о другом крыле наступающих немецких войск, наступавших с северо-запада и далее на юг — навстречу обнаруженной летчиками Московской ПВО танковой колонне, двигавшейся с юго-запада и далее — от Юхнова на север. Общая картина дополняется воспоминаниями Г.К. Жукова, лично выяснявшего, что же произошло на Западном и Резервном фронтах. Жуков в то время находился в Ленинграде и командовал Ленинградским фронтом. 5 октября (очевидно — после 15 часов) к нему позвонил Сталин и сказал: «У меня к вам только один вопрос: не можете ли сесть в самолет и прилететь в Москву? Ввиду осложнения обстановки на левом крыле Резервного фронта в районе Юхнова Ставка хотела бы с вами посоветоваться о необходимых мерах».[989] Ввиду нежесткости и необязательности такой постановки вопроса не слишком чуткий Жуков испросил разрешения вылететь на следующее утро, а сам задержался до вечера 6 октября. Он объяснял это тактическими осложнениями на фронте одной из подчиненных армий, но, может быть, у него были дела и поважнее. Вечером 6 октября опять звонил Сталин. Жуков доложил обстановку и «спросил Верховного, остается ли распоряжение о вылете в Москву. — Оставьте за себя начальника штаба фронта генерала Хозина или Федюнинского [командующего одной из армий фронта], — повторил И.В. Сталин, — а сами вылетайте в Москву».[990] Жуков продолжает: «В Москву прилетел 7 октября. /…/ И.В. Сталин подозвал к карте и сказал: — Вот смотрите. Здесь сложилась очень тяжелая обстановка. Я не могу добиться от Западного фронта исчерпывающего доклада об истинном положении дел. Мы не можем принять решений, не зная, где и в какой группировке наступает противник, в каком состоянии находятся наши войска. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта. Тщательно разберитесь в положении дел и позвоните мне оттуда в любое время. Я буду ждать».[991] Жуков, таким образом, посылался с поручением, которое могло быть отдано любому толковому капитану или майору Генерального штаба, но только снабженного официальными полномочиями от Генерального штаба или Верховного главнокомандующего, — причем такого делегата следовало бы выслать еще за пару суток до этого. Между тем, в это самое время и происходили события, едва не завершившие всю историю Советского Союза: «В один из самых черных для советских войск дней 1941 г., 7 октября, 7-я танковая дивизия 3-й танковой группы и 10-я танковая дивизия 4-й танковой группы [немцев] замкнули кольцо окружения Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы. /…/ В вяземском «котле» были пленены командующий 19-й армией генерал-лейтенант М.Ф. Лукин и командующий 32-й армией С.В. Вишневский. Погиб под Вязьмой командующий 24-й армией генерал-майор К.И. Ракутин. /…/ Итак, 7 октября 1941 г. 800-километровый фронт рухнул. Армии, стоящие на пути группы армий «Центр» попали в окружение».[992] Беда, однако, состояла в том, что хотя поросячий восторг Виктора Суворова (В самое трудное время, в критическое, в сверхкритическое, когда войска Гитлера стояли у ворот Москвы, когда Москва могла вполне пасть, все равно любые приказы Сталина бесприкословно выполнялись!) вполне оправдан, но в реальности все это сопровождалось тем, что все, спасая свою шкуру, безбожно врали Сталину, пользуясь тем, что все равно начальство всего проверить не может! Исключения типа Телегина были крайней редкостью. И Сталин, в отличие от Суворова, прекрасно понимал это. Поэтому обычный капитан или майор ему не годились для такого поручения; таковые, возможно, и посылались ранее, но ничего выяснить не смогли — по крайней мере с точки зрения Сталина. Теперь нужен был именно Жуков — с его волей и нервной системой, способными проломить сопротивление любого Конева или Булганина и даже Мехлиса и Буденного, а сам Жуков не станет скрывать от Сталина ошибки и бездарность других генералов, в которых он, Жуков, оказывался в данный момент совершенно неповинен — такова была суть личных отношений в тогдашней военной верхушке! Но почему Сталин почти ласково уговаривал Жукова явиться в Москву, хотя, казалось бы, промедление было смерти подобно?! Интересно и то, что у Жукова создалось впечатление (в отличие от того, что передано Телегиным), что только «в ночь на 7 октября началась переброска войск из резерва Ставки и с соседних фронтов на можайскую оборонительную линию. Сюда прибывали 11 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 артиллерийских полков и ряд других частей».[993] В ночь на 8 октября Жуков прибыл в штаб Западного фронта: «За столом сидели И.С. Конев, В.Д. Соколовский[994], Н.А. Булганин[995] и Г.К. Маландин[996]. Вид у всех был переутомленный. Я сказал, что приехал по поручению Верховного Главнокомандующего разобраться в обстановке и доложить ему отсюда по телефону»[997] — в результате Сталин и получил, наконец, сведения о том, что же происходило в последние девять дней. «Наступление немецких войск началось 30 сентября ударом танковой группы Гудериана и 2-й немецкой армии по войскам Брянского фронта /…/. 2 октября противник нанес мощные удары по войскам Западного и Резервного фронтов. /…/ Ударные группировки врага стремительно продвигались вперед, охватывая с юга и с севера всю вяземскую группировку войск Западного и Резервного фронтов. Крайне тяжелая обстановка сложилась и к югу от Брянска, где 3-я и 13-я армии Брянского фронта оказались под угрозой окружения. Не встречая серьезного сопротивления, войска Гудериана устремились к Орлу, в районе которого у нас не было сил для отражения наступления. 3 октября немцы захватили Орел. Брянский фронт оказался рассеченным. Его войска, неся потери, с боями отходили на восток. Создалось угрожающее положение и на тульском направлении. По приказу /…/ Конева был нанесен контрудар по обходящей северной группировке противника. К сожалению, успеха этот контрудар не имел. К исходу 6 октября значительная часть войск Западного и Резервного фронтов была окружена западнее Вязьмы. /…/ В 2 часа 30 минут ночи 8 октября я позвонил И.В. Сталину. /…/ доложив обстановку на Западном фронте, я сказал: — Главная опасность сейчас заключается в слабом прикрытии на можайской линии. Бронетанковые войска противника могут поэтому внезапно появиться под Москвой. Надо быстрее стягивать войска откуда только можно на можайскую линию обороны. И.В. Сталин спросил: — Где сейчас 19, 20-я армии и группа Болдина Западного фронта, где 24-я и 32-я армии Резервного фронта? — В окружении западнее и северо-западнее Вязьмы, — ответил я. — Что вы намерены делать? — Выезжаю сейчас же к Буденному. — А вы знаете, где штаб Буденного? — Буду искать где-то в районе Малоярославца. — Хорошо, поезжайте к Буденному и оттуда сразу же позвоните мне».[998] Тут, конечно, напрашивается вполне определенный хулиганский вопрос. Хорошо известно, что официальная советская пропаганда много десятилетий трубила о том, что нападение немцев 22 июня 1941 года произошло вероломно и без объявления войны. На самом деле такое официальное объявление войны состоялось в достаточно корректные моменты времени. Практически одновременно, сразу после рассвета 22 июня на советско-германской границе, в Москве (приблизительно в 5.30 утра по местному времени) и в Берлине (приблизительно в 3.30 утра по местному времени) официальные германские представители вручили соответствующим советским идентичные экземпляры ноты, объявляющей войну, — в Берлине министр иностранных дел И. фон Риббентроп советскому послу В.Г. Деканозову,[999] а в Москве германский посол В. фон Шуленбург советскому министру иностранных дел В.М. Молотову.[1000] Правда, в те минуты на границах уже около часа звучала стрельба — и если бы только звучала!.. Не удивительно поэтому, что тут же оказалась прервана и телефонная связь посольства в Берлине с Москвой[1001] — едва ли это было специальной акцией со стороны немцев; это, во всяком случае, вполне оправдывалось тем, что происходило в зоне боев, через которую теперь и проходила прежняя телефонная линия. С 7 часов утра (по берлинскому времени) 22 июня на Германию обрушились соответствующие новости и разъяснения, растиражированные по радио и прессой: ведь война началась с теми, кого почти все в Германии еще минувшей ночью почитали как собственных союзников![1002] Лишь через три часа, в 12 часов дня (по московскому времени), наконец-то и Молотов объявил по радио, что началась война — якобы «без объявления войны»! А с этого объявления на самом деле прошло уже шесть с половиной часов! Немцы все-таки пытались зажать собственные новости о действительном положении на фронтах. Геббельс записал в своем дневнике 25 июня 1941 года: «Мы еще не публикуем подробности в сводке Главного командования вермахта. Противник должен оставаться в полном неведении. Он, очевидно, не имеет информации. В Москве разглагольствуют и хвастаются в прежнем коммунистическом стиле. Но они приглушены пушечной канонадой».[1003] На международных же каналах радиовещания эти благие намерения Геббельса с самого начала были приглушены истошным воем его собственной пропаганды об успехах Вермахта, хотя и без подробностей! А вот если бы немцы действительно с самого начала совсем ничего не объявляли, а просто по-деловому начали и продолжали бы воевать (это, конечно, абсолютно нереальное допущение!), то в каком бы месяце Сталин узнал бы о начале войны? Это, попутно, вопрос и о всеведении советской разведки, фантастически разрекламированном в последние десятилетия! Утром 8 октября в лесу под Обнинском (105 км от Москвы) Жуков случайно нашел штаб Резервного фронта, потерявший своего командующего — Буденного. Жуков побеседовал с представителем Ставки Мехлисом (одним сначала из секретарей, а потом ближайших военно-политических помощников Сталина) и начальником штаба фронта Анисовым. «Из разговоров с Л.З. Мехлисом и А.Ф. Анисовым я узнал мало конкретного о положении войск Резервного фронта и о противнике. Сел в машину и поехал в сторону Юхнова, надеясь на месте выяснить обстановку. /…/ Проехав до центра Малоярославца, я не встретил ни одной живой души. Город казался покинутым. Около здания райисполкома увидел две легковые машины. — Чья это машина? — спросил я, разбудив шофера. — Семена Михайловича Буденного, товарищ генерал армии. — Где Семен Михайлович? — В помещении райисполкома. — Давно вы здесь? — Часа три стоим. Войдя в райисполком, я увидел задумавшегося над картой С.М. Буденного. /…/ — Ты откуда? — спросил Буденный. — От Конева. — Ну, как у него дела? Я более двух суток не имею с ним никакой связи. Вчера я находился в штабе 43-й армии, а штаб фронта снялся в мое отсутствие, и сейчас я не знаю, где он остановился. — Я его нашел на 105-м километре от Москвы, в лесу налево, за железнодорожным мостом через реку Протву. Там тебя ждут. На Западном фронте, к сожалению, значительная часть сил попала в окружение. — У нас не лучше, — сказал С.М. Буденный, — 24-я и 32-я армии отрезаны. Вчера и сам чуть не угодил в лапы противника между Юхновым и Вязьмой. В сторону Вязьмы шли большие танковые и моторизованные колонны, видимо, для обхода города с востока. — В чьих руках Юхнов? — Сейчас не знаю. На реке Угре было до двух пехотных полков, но без артиллерии. Думаю, что Юхнов в руках противника. — Ну а кто же прикрывает дорогу от Юхнова на Малоярославец? — Когда я ехал сюда, кроме трех милиционеров в Медыни никого не встретил. Местные власти из Медыни ушли. — Поезжай в штаб фронта, — сказал я Семену Михайловичу, — разберись в обстановке и доложи в Ставку о положении дел, а я поеду в район Юхнова. Доложи Верховному о нашей встрече и скажи, что я поехал в Калугу. Надо разобраться, что там происходит. /…/ В районе Калуги меня разыскал офицер связи и вручил телефонограмму начальника Генерального штаба, в которой Верховный Главнокомандующий приказывал мне прибыть 10 октября в штаб Западного фронта. /…/ Вскоре по прибытии в штаб, который располагался в Красновидове, меня вызвали к телефону. Звонил И.В. Сталин. — Ставка решила назначить вас командующим Западным фронтом. Конев остается вашим заместителем. /…/ В ваше распоряжение поступают оставшиеся части Резервного фронта, части, находящиеся на можайской линии. Берите скорее все в свои руки и действуйте. — Принимаюсь за выполнение указаний, но прошу срочно подтягивать более крупные резервы, так как надо ожидать в ближайшее время наращивания удара гитлеровцев на Москву».[1004] Был уже вечер 10 октября, а силы Красной Армии, находившиеся между Москвой и подвижными соединениями Вермахта, были по-прежнему практически эфемерными. Удивляться приходится теперь не бездарности советского командования — оно просто не поддается никаким оценкам, а тому, что же все это время делали немцы. Чем они, например, занимались в Юхнове, который заняли еще пять дней назад? Почему не двигались к Москве? Ведь им бы почти никто не помешал: почти все противостоявшие им советские маршалы, генералы, офицеры и солдаты бродили в это время по всей Московской области и прилегающим к ней областям совершенно самостоятельно, некоторые из них сражались с немцами в смертельном бою, но почти никто не помышлял ни о каких организованных действиях, никем не управлялся и никем не управлял! Чем, например, занимался сам Жуков с 8 по 10 октября? Упивался независимостью и играл в разведчика-индейца? Заместитель Верховного Главнокомандующего, самолично рыскающий по подмосковным лесам — это ли не свидетельство профессиональной непригодности?.. И чем занимались генералы, которых в эти дни пленили в Вяземском котле? Уже после войны немецкие генералы, как говорилось, с удовольствием отыскивали стратегические и тактические ошибки Гитлера. Но чьи же тут были конкретно ошибки? «По оценке штаба группы армий [ «Центр»] от 8 октября «…сложилось такое впечатление, что в распоряжении противника нет крупных сил, которые он мог бы противопоставить дальнейшему продвижению группы армий на Москву…» /…/ Прямым следствием заниженной оценки возможностей советских войск было решение о повороте на север, в направлении Калинина. В «Приказе на продолжение операции в направлении Москвы» от 7 октября 1941 г. 9-я армия получила задачу вместе с частями 3-й танковой группы выйти на рубеж Гжатск — Сычевка, чтобы сосредоточиться для наступления в направлении на Калинин или Ржев. В основе этого решения лежал план /…/ нарушения сообщения между Москвой и Ленинградом. Решение это автоматически выводило /…/ крупные подвижные соединения группы армий «Центр» — XXXXI и LVI моторизованные корпуса — из сил, которые требовалось сдерживать [Красной Армии] непосредственно на московском направлении. Только у одного соединения для этого была «уважительная» причина: 7-я танковая дивизия LVI корпуса была скована удержанием «котла» под Вязьмой. Она была сменена 35-й пехотной дивизией только 11 октября. Впоследствии бывший начальник штаба 4-й танковой группы генерал Шарль де Боло утверждал, что «Московская битва была проиграна 7 октября». По его мнению, все соединения его и 3-й танковой группы нужно было бросить на Москву. Де Боло писал: «К 5 октября были созданы прекрасные перспективы для наступления на Москву». Эти перспективы не были использованы, самые сильные соединения повернули на Калинин».[1005] Нужно быть германским генштабистом, чтобы понять, зачем захватывать Калинин, отсекая уже блокированный Ленинград от Москвы, которая должна была пасть со дня на день! Понятно, что получилось: у немецких генералов глаза разбежались — каждый командующий армией жаждал добиться собственной победы, а командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок, как ядовито писал о нем Гальдер уже в июле 1942, «как и всегда, попал под влияние своих командующих армиями».[1006] Вина же общегерманского командования (Гитлер, Йодль, Браухич, Гальдер и другие) оказалась в том, что они не пресекли этот типичный местный командный сепаратизм и не поставили жесткой конкретной задачи всем наступающим войскам. Почему таковой оказалась позиция Гитлера — к этому нам предстоит вернуться уже не в данной книге. Тем не менее, даже ослабленные по собственной вине части и соединения Вермахта продолжали тянуться к Москве — уж больно лакомо выглядела цель! Этому победному прогулочному порыву весьма способствовала и тогдашняя прекрасная погода — стояла чудная золотая осень с редкими дождями! Но ведь не могла же она длиться бесконечно долго! А у немцев даже не было доставлено на фронт зимнее обмундирование! 3 октября 1941-го, повторяем, пал Орел, 6 октября — Брянск. С 5 по 15 октября большинство зенитных 88-мм орудий Московской ПВО снималось с позиций, объединилось в 24 полка и выдвинулось на противотанковые рубежи.[1007] С 7 октября три армии Брянского фронта развернулись на 180° и двинулись на восток на прорыв окружения. 10 октября погиб командующий 50-й армией генерал-майор М.П. Петров. С 18 по 23 октября нескольким тысячам человек удалось прорваться на разных участках — противоборство с ними связало значительные силы немцев.[1008] 9 октября немцы, наконец-то, двинулись из Юхнова на восток и заняли Медынь. 9-12 октября на Можайском оборонительном рубеже появились уже три советские дивизии из резерва, переброшенные по приказу Ставки; они немедленно втягивались в сражения.[1009] Но этих сил было ничтожно мало, и 14 октября был потерян Боровск с мостом через Протву, в тот же день были оставлены знаменитое Бородино, Верея, Гжатск и Калинин (!), тяжелые бои за возврат которого развернулись в последующие дни. В этот же день, 14 октября, прекратилось сопротивление в Вяземском «котле», и окружавшие его немецкие войска стали разворачиваться на Москву.[1010] В приказе от 19 октября фон Бок заявлял: «Сражение за Вязьму и Брянск привело к обвалу эшелонированного в глубину русского фронта. Восемь русских армий в составе 73 стрелковых и кавалерийских дивизий, 13 танковых дивизий и бригад и сильная армейская артиллерия были уничтожены в тяжелой борьбе с далеко численно превосходящим противником. Общие трофеи составили: 673 098 пленных, 1 277 танков, 4 378 артиллерийских орудий, 1 009 зенитных и противотанковых пушек, 87 самолетов и огромные количества военных запасов».[1011] 15 октября была оставлена Калуга, развернулись бои за Можайск в центре обороны, на подступах к Волоколамску — на севере Можайской линии, Тарусе и Серпухову — на юге, шли бои за Малоярославец и под угрозой оказались Наро-Фоминск и Подольск — на юго-западе. Последующий прорыв Можайской оборонительной линии по всем направлениям был очевиден. Стало ясно, что Москву не защитить! Вечером 15 октября ГКО принял решение об эвакуации Москвы.[1012] Московские учреждения сжигали архивы — пепел устилал весь центр Москвы. Днем 16 октября более или менее организованно город покинули в автомобильных колоннах основные правительственные и московские административные власти. После этого и в результате этого Москву охватила немыслимая паника; автор слышал рассказы о ней от родных и близких; многие свидетельства различных очевидцев позднее были опубликованы.[1013] Массы москвичей бежали пешком на восток; шла совсем не джентльменская борьба за транспортные средства. Другие грабили продовольственные склады и магазины; многие со злорадством ожидали немцев. Остается лишь предметом домыслов вопрос о том, не случилось бы то же самое по всей России, если бы пала Москва? Историкам бесполезно спорить об этом, хотя можно как угодно рассуждать о том, что «пример Наполеона[1014]был известен в СССР любому школьнику, рассчитывать на ошеломляющий психологический эффект от захвата столицы не приходилось»![1015] Кому — не приходилось, а кому — приходилось!.. В этот же день, 16 октября, далеко от Москвы, пала Одесса, осажденная румынами еще в середине августа 1941. Будущая мать автора этих строк, только что выпущенная инженером из Московского института стали и сплавов, оказалась в тот день свидетелем того, как минировали кузнечный цех Московского ЗиСа, где она работала; в тот же день она сожгла свой комсомольский билет. Это существенно умерило ее дальнейшие амбиции: она не рисковала вступать в партию, опасаясь, что при проверке может выясниться тщательно скрываемый с тех пор факт ее прошлого пребывания в комсомоле! В конечном итоге такая неполноценность отчасти и привела ее к браку с моим отцом, имевшим множество ближайших родственников — расстрелянных «врагов народа». Где был в это время сам Сталин? Несколько позднее, 6 и 7 ноября 1941, колоссальное впечатление и на Советский Союз, и на заграницу произвели два выступления Сталина, транслированные по радио и показанные в кинохронике: вечером 6 ноября в Московском метро, переоборудованном под бомбоубежище, на торжественном заседании, посвященном 24-летию Октябрьской революции, а утром 7 ноября — на параде на Красной площади, происходившем в нескольких десятках километров от вроде бы наступающих немецких войск! Похоже, однако, что ничего подобного не могло происходить 16 или 17 октября. Днем 17 октября по Московскому радио выступили секретарь ЦК и Московского горкома партии А.С. Щербаков и председатель Моссовета В.П. Пронин, успокаивая москвичей.[1016] Они призывали защищать столицу. Щербаков заявил, что Сталин остается в Москве. Заметим, что определенным подражанием этому было заявление Геббельса 22 апреля 1945 года о том, что Гитлер остается в Берлине — вместе с Геббельсом! Это заявление Щербакова, надо сказать, несколько разрядило обстановку в городе. Но где же в действительности находился Сталин? Было принято решение и об эвакуации из столицы все еще остающихся в ней военных академий, состав которых все же не решились бросить в мясорубку под Москвой.
Совсем не так происходило с Бронетанковой академией имени Сталина! Отец автора этих строк, Андрей Николаевич Брюханов (1910–1970), был в первом выпуске Бронетанковой академии в 1934 году, сразу затем был демобилизован в промышленность. В 1954 году уцелевших выпускников собрали в академию на юбилейное заседание и банкет; вручили нагрудные академические значки, еще не принятые в 1934 году. При учете настроений этой публики, бывшей уже взрослыми и в большинстве военными еще в 1930–1931 годах, пережившей и 1937–1938 годы, и войну, и послевоенное лихолетье, нужно понимать, что как раз тогда наступала хрущевская «оттепель» — языки заметно развязались после почти четверти века страшного молчания! Отец, вернувшись со встречи однокашников, пересказал в числе прочих услышанных и нижеследующую историю (запомнились и не менее удивительные!). Один из его однокурсников служил в академии и в 1941 году. 16 октября 1941 он как раз был дежурным по академии. Ее вооруженный состав привели на Курский вокзал в Москве и загрузили в эшелон. Позже втихую подъехал Сталин с несколькими сопровождающими и погрузился в вагон, заранее оставленный свободным. Эшелон вышел в сторону Горького и более двух суток слонялся по лесным полустанкам — где-то под Муромом; предполагалось, что прятался от возможного налета немецкой авиации. Чем тогда занимались Сталин и его непосредственные спутники — этого рассказчик уже не знал, как не знали об их присутствии почти все, находившиеся в эшелоне. Интереснейшая особенность: Сталин выбрал в сопровождающих не друзей народа, подчиненных Берии и Абакумову, а офицеров-танкистов! Слушатели академии — это подготовленные офицеры-профессионалы со стажем, а не курсанты военных училищ — вчерашние школьники. Несколько сотен таких лейтенантов, капитанов и майоров во главе с преподавателями — генералами и полковниками, могли в пух разнести любого противника, численно превосходящего и лучше вооруженного!.. С кем же опасался встречи Сталин в Муромских лесах?.. Именно на этот момент и пришелся перелом ситуации под Москвой. «В журнале боевых действий штаба группы армий «Центр» 19 октября было записано: «В ночь с 18 на 19 октября[1019] на всем участке фронта группы армий прошли дожди. Состояние дорог настолько ухудшилось, что наступил тяжелый кризис в снабжении войск продовольствием, боеприпасами и особенно горючим. Состояние дорог, условия погоды и местности в значительной мере задержали ход боевых действий. Главную заботу всех соединений составляет подвоз материально-технических средств и продовольствия»»[1020] — и немецкое наступление резко притормозило! Фельдмаршал Кессельринг, командовавший тогда, напоминаем, 2-м воздушным флотом, писал: «Физическое и эмоциональное напряжение превысило все допустимые пределы. /…/ Грязь и непогода совершенно изменили условия ведения боевых действий, которые ранее складывались в нашу пользу. /…/ боги, пославшие дождь, распорядились иначе; русские получили шанс создать тонкую линию обороны к западу от Москвы и насытить ее своими резервами, состоявшими из рабочих и курсантов военных училищ. Они сражались самоотверженно и остановили наступление наших почти утерявших мобильность войск».[1021] Начальник штаба 4-й армии, наступавшей на Москву, генерал Блюментритт писал: «несмотря на незначительное сопротивление, «…наступление шло медленно, потому что грязь была ужасной и войска устали».»[1022] Это, похоже, и повлияло на решение Сталина — причем не только о возвращении в Москву! Или, наоборот, решение Сталина повлияло на погоду! К вечеру 19 октября Сталин в том же эшелоне вернулся на Курский вокзал в Москве. Данная история не имеет документальных подтверждений; автор не запомнил даже имени упомянутого однокурсника отца. Но ведь никто до сих пор и не искал таких документов там, где это было нужно! Зато имеется множество свидетелей того, как поздним вечером 19 октября Сталин уверенно и решительно забирал в свои руки управление в Москве![1023] С 20 октября Москва была объявлена на осадном положении — с комендантским часом (запретом населению появляться на улицах в ночное время без специальных пропусков) и неограниченной властью патрулей (вплоть до расстрела подозрительных на месте). В последующие дни перелом на фронте обозначился вполне: «22 октября немцы взяли Наро-Фоминск на магистрали Рославль-Москва. /…/ линия обороны Москвы была прорвана в 69 км от города. /…/ С захватом Наро-Фоминска и переходом вермахта через [реку] Нару последние рубежи советской обороны к юго-западу от Москвы оказались прорванными. Наступающим немецким частям, казалось, уже ничего не мешало, но погода резко ухудшилась, дожди усилились и превратили почву в трясину. Генерал-фельдмаршал фон Бок приказал войскам остановиться и ждать, пока земля затвердеет, чтобы продолжить движение».[1024] Сталин заявил в своей речи в подземельях Московского метро 6 ноября 1941 года: «Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат»[1025] — это звучало подобно последнему предупреждению, заключительному аргументу в споре, как бы завершавшему диалог, сам факт и содержание которого остались за рамками данного широковещательного выступления. Это подчеркивалось немедленно последовавшим призывом: «Отныне[1026] наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве её оккупантов. Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам!»[1027] А чем же, интересно, Красная Армия, по мнению Сталина, занималась до того? Так или иначе, но это сразу было услышано на самом верху: «Первый мороз ударил в ночь с 6 на 7 ноября[1028], и по немецкому фронту прокатился вздох облегчения — грязь закончилась… Возобновились поставки, появились запчасти, танки стали возвращаться из передвижных полевых мастерских. /…/ фон Бок стремился поскорее возобновить боевые действия, но войска были настолько измотаны, что нуждались в передышке. /…/ первые дни морозов стали особенно напряженными для тылового обеспечения — на грузовиках, на санях и на телегах /…/ доставляли все необходимое на передовую»[1029] — причем по обе стороны фронта! Вот тогда-то, 7 ноября, Сталин и заявил, что война завершится через полгодика-годик! С заснеженной Красной площади он уже мог видеть мысленным взором предстоящий разгром немцев под Москвой — и вот в этом-то он не ошибся! Ответ Гитлера состоялся через несколько дней. «12 ноября температура опустилась до –15°, а на следующий день было уже –20°. В этот день в Орше состоялось секретное совещание, на которое начальник Генштаба Гальдер созвал высшее военное руководство вермахта на Восточном фронте; это стало одним из решающих моментов в истории немецкой армии. Решался вопрос, следует ли встать на зимние квартиры, дать отдых солдатам и не торопясь отремонтировать материальную часть, обдумывая следующий этап кампании? Или следовало пойти на риск последнего рывка к столице? Гитлер сам обрисовал общую обстановку, сложившуюся на Восточном фронте, и, выслушав мнение офицеров, приказал продолжить наступление. /…/ Гитлер /…/ считал, что русские находятся при последнем издыхании и нужен только последний решительный удар. Доводы фон Бока совпадали с мнением Гитлера /…/. Командиры отдельных частей — и крупных и малых — прекрасно знали, что поставлено на карту. Генерал-полковник Гепнер, за активное участие в антигитлеровском Сопротивлении закончивший жизнь на виселице, 17 ноября отдал высокопарный и напыщенный приказ о последнем бое: тогда даже он пребывал в уверенности, что Москву можно взять».[1030] 19 ноября 1941 года немецкое наступление возобновилось. Но это было уже началом конца немцев под Москвой: «Настоящая русская зима пришла чуть раньше, чем обычно».[1031] Решение, которое было жизненно необходимым для Вермахта 7 октября 1941 года, теперь уже не соответствовало сложившейся обстановке! Затянувшаяся на три недели (приблизительно с 23 октября по 18 ноября) пауза в военных действиях могла быть гораздо более продуктивно использована советской стороной: значительную часть этого времени немецкий фронт испытывал подлинные лишения, будучи отрезан непогодой от своих баз снабжения, оставшихся далеко позади; советский же при любой погоде снабжался по кратчайшим коммуникациям, идущим от Москвы, сама Москва представляла собою колоссальную базу снабжения, связанную с остальной страной всепогодными железнодорожными коммуникациями, не отрезанными с востока. Немецкая авиация также утратила в это время свои преимущества: полевые аэродромы с обеих сторон вышли из строя; стационарные аэродромы немцев остались далеко позади, а советские самолеты летали с московских аэродромов на кратчайшие расстояния и наносили удары по ближайшим целям. С наступлением же морозов европейская техника (и воздушная, и наземная) стала испытывать значительные трудности с качеством горюче-смазочных материалов. И наступавшие на подмосковных полях немцы оказались во власти мороза и подвезенных резервов Красной Армии — более или менее подготовленных, а главное — достаточно сытых, хорошо вооруженных и обеспеченных боеприпасами, одетых и обутых по погоде! В поведении и Гитлера, и Сталина в период августа-ноября 1941 года имеется масса странностей, не понятных и очень превратно толкуемых многими их соратниками, не говоря уже об историках. Однако многое в этих странностях существенно проясняется, если рассматривать их не порознь, а в совокупности друг с другом. К началу августа 1941 года высшему руководству обеих сторон — Сталину, Гитлеру и их ближайшим помощникам — стало ясно, что стороны зашли в тупик и положение безвыходное. Сталину и его генералам должно было быть ясно, что от немецкой оккупации западной части СССР быстро не избавиться: она грозила установиться надолго или навсегда, хотя позднее, 7 ноября 1941 года, Сталин и хорохорился, заявляя, что Германия рухнет через полгодика или годик. События последующих лет показали, что с августа 1941 только для изгнания немцев из Советского Союза понадобилось три года — и то некоторая часть прибалтийских территорий, вошедших в 1940 году в состав СССР, оставалась у немцев до самого конца войны. Ясно, что с позиций того августа можно было придерживаться и более оптимистического, и более пессиместического прогнозов, нежели эти три года, но в любом варианте это не могло казаться легким делом. Гитлеру тоже должно было стать ясно, что задачи, поставленные перед началом кампании, не решены — и не известно, когда и как можно будет их разрешить: Германия не добилась захвата необходимых ей природных источников стратегического сырья, не обеспечила и теоретически безопасных границ для дальнейшего существования «тысячелетнего» рейха, в качестве каковых еще до начала кампании представлялась воображаемая линия Архангельск-Астрахань. Хотя Красная Армия потерпела и продолжала терпеть ужасающие поражения, но она все еще существовала — вопреки изначальным прогнозам, а «неполноценные» русские вовсе не считали себя побежденными — быть может потому, что и были «неполноценными», что едва ли могло утешить Гитлера. Гальдер, который 3 июля 1941 уже «победил» Красную Армию, полностью протрезвел к 11 августа: «Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, что колосс-Россия, который сознательно готовился к войне, несмотря на все затруднения, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценен. Это утверждение можно распространить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства сообщения и, в особенности, на чисто военные возможности русских. К началу войны мы имели против себя около 200 дивизий противника. Теперь мы насчитываем уже 360 дивизий противника. Эти дивизии, конечно, не так вооружены и не так укомплектованы, как наши, а их командование в тактическом отношении значительно слабее нашего, но, как бы то ни было, эти дивизии есть. И даже если мы разобьем дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину».[1032] Это удивительнейшим образом напоминает то, что еще в 1924 году было написано в «Майн Кампф»: «С сентября 1914 г., после того как в результате битвы под Танненбергом[1033] на дорогах и железных дорогах Германии появились первые толпы русских военнопленных, этому потоку уже не видно было конца. Громадная Российская империя поставляла царю все новых солдат и приносила войне все новые жертвы. Как долго могла Германия выдержать эту гонку? Ведь придет же однажды день, когда после последней немецкой победы появится еще одна последняя русская армия для самой последней битвы. А что потом? По человеческим представлениям победу России можно только отсрочить, но она должна наступить».[1034] Почему же никто, включая Гитлера, не читал Гитлера? Или дело было в чем-то другом? Заметим притом, что Гитлер и его генералы были не очень сильны в географии, как и подавляющее большинство всех немцев, и не только в знаниях особенностей российского климата: география — ахиллесова пята традиционной системы немецкого образования. Это, конечно, не случайный факт, равно как и органическое нежелание немцев жить в высоких домах с видом из окон вдаль; что поделаешь, национальные особенности — это не выдумка и не происки расистов! Поэтому Гитлер и его генералы даже и не подозревали, что их войска в августе 1941 на большей части линии фронта еще не дошли до западной границы России — той самой, что существует и на сегодняшний день; мы об этом уже писали.[1035] Война для русских начиналась на чужой земле! Так или иначе, но стороны должны были искать выход из безвыходного положения: ведь не считать же таковым выходом то, что происходило в последующие три с половиной года! Если человек не может отыскать выход из квартиры, а потому бросается из окна вниз с пятого, допустим, этажа, то не считать же это найденным выходом! А ведь фактическое состояние и населения, и народного хозяйства и Германии, и Советского Союза к весне 1945 года было подстать физическому состоянию человека, совершившего подобный прыжок! Притом такой катастрофический полет двух великих держав был еще страшнее и мучительнее потому, что происходил весьма медленно и, казалось бы, абсолютно неизбежно и неотвратимо! Неужели такой ход событий и такой результат можно посчитать позитивным достижением какой-либо из воевавших сторон? Поэтому очень разумно было бы вовремя поискать иные варианты — они и изыскивались. Но подробнее об этом нам предстоит рассказывать уже в других книгах. Характерно, однако, что Сталин уже после войны постарался удалить подальше или вовсе расправиться с теми, кто оказался свидетелем странностей его поведения осенью 1941 года — хотя и невозможно утверждать, что именно это было определяющим фактором, решавшим исход их судеб. Маршал Шапошников был смещен с руководства Генштабом в июне 1943 по состоянию здоровья, возглавлял после этого Академию Генштаба, а умер в марте 1945. Секретарь ЦК и МК Щербаков, объявивший 17 октября 1941, что Сталин в Москве (и тем самым, несомненно, повлиявший на решение последнего вернуться), заменил в июне 1942 года абсолютно бездарного и невероятно жестокого Мехлиса на посту начальника Политуправления Красной Армии. В мае 1945 Щербаков умер — в возрасте 44 лет! Говорили, что он был алкоголиком, но эта странная смерть не осталась без странных последствий. Маршал Жуков постепенно, начиная с лета 1945, понижался в должностях, снизившись в июне 1946 до командования Одесским военным округом. С ним случился инфаркт после ареста нескольких его друзей и сослуживцев в начале 1948 года; после выздоровления он был назначен командующим Уральским военным округом, почти не имевшим войск. Маршал Берия в декабре 1945 был полностью отстранен от руководства органами госбезопасности, но брошен на Атомный проект. С ноября 1951 по июнь 1952 разворачивалось так называемое «Мингрельское дело»: кампания по репрессиям явных сподвижников Берии в Грузии[1036] — тучи сгущались над головой самого Лаврентия Павловича! Генерал-полковник Абакумов в 1946 году стал министром Госбезопасности СССР; был смещен в июле 1951 и через неделю, 12 июля, арестован. Его обвинили в том, что он-де не давал ходу «делу врачей» — очередной кампании по разоблачению евреев-отравителей, которую подчиненные Абакумова пытались раздуть еще с осени 1950 года. Тут-то и всплыла смерть Щербакова: «В ноябре 1950 года был арестован еврейский националист, проявлявший резко враждебное отношение к советской власти, — врач Этингер. При допросе старшим следователем МГБ т. Рюминым арестованный Этингер, без какого-либо нажима, признал, что при лечении т. Щербакова А.С. имел террористические намерения в отношении его и практически принял все меры к тому, чтобы сократить его жизнь. /…/ Среди врачей несомненно существует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь руководителей партии и правительства. Нельзя забывать преступления таких известных врачей, совершенные в недавнем прошлом, как преступления врача Плетнева и врача Левина, которые по заданию иностранной разведки отравили В.В. Куйбышева и Максима Горького. Эти злодеи признались в своих преступлениях на открытом судебном процессе, и Левин был расстрелян, а Плетнев осужден к 25 годам тюремного заключения.[1037] Однако министр госбезопасности Абакумов, получив показания Этингера о его террористической деятельности, /…/ признал показания Этингера надуманными, заявил, что это дело /…/ заведет МГБ в дебри»[1038] — это из постановления ЦК ВКП(б) от 13 июля 1951 года! Арестован был в ноябре 1952 и бессменный секретарь Сталина А.Н. Поскребышев. На следствии он сознался в связях со всемирным заговором сионистов. Смерть Сталина произвела значительные перемены во всех судьбах этих людей. Жуков стал 1-м заместителем министра Обороны, а с февраля 1955 — министром. Он сыграл решающую роль в приходе к власти Н.С. Хрущева, в частности — в аресте в июне 1953 Берии, который вернулся к руководству госбезопасности после смерти Сталина. Поскребышев после смерти Сталина был выпущен из тюрьмы и уволен на пенсию. Абакумов оставался сидеть, хотя выпустили всех еще уцелевших в тюрьмах «врачей-отравителей». Берию судили, приговорили к расстрелу и расстреляли в декабре 1953; Абакумова — в декабре 1954; оба не реабилитированы по сей день. За плечами у обоих — множество преступлений, но судили их по обвинениям, нелепость которых не выдерживает ни малейшей критики. Жуков уволен в отставку Хрущевым в октябре 1957. Не менее причудливо складывалась судьба генерал-лейтенанта Телегина. В апреле-мае 1945 судьба снова свела тех, кто решал в октябре 1941 участь Москвы; на этот раз жизненные траектории привели их в Берлин — последнее официальное местопребывание Гитлера. Телегин по-прежнему был членом Военного совета, но уже 1-го Белорусского фронта, под командованием маршала Жукова штурмовавшего Берлин. В то время Телегин был уже близким соратником Жукова, а в ходе послевоенной интриги против последнего был арестован в январе 1948 года по личному распоряжению Сталина, приговорен к 25 годам лишения свободы и сидел в заключении до лета 1953 года. Официально расправа оправдывалась обвинением в крупных хищениях ценностей, награбленных в Германии,[1039] но дело было, конечно, не в этом: в советских оккупационных войсках мародерствовали тогда почти все — от маршалов до солдат. В этом смысле Телегин, как и другие, был нисколько не лучше и предков Гитлера, и многих соратников последнего. Разумеется, эти факты нисколько не украшают биографию Телегина — он оказался далеко не идеальным героем. Хотя спасителя Москвы можно было бы и наградить эшелоном всяческого добра — не за счет ограбленных немцев, разумеется, а из числа тех гигантских даже просто материальных ценностей, которые были спасены в Москве в результате его инициативы. Увы, Телегин запомнился современным историкам вором и мародером, и на Манежной площади в Москве красуется ныне памятник Жукову, а вовсе не ему. Мало того, морально безупречные авторы, вроде Виктора Суворова, позволяют себе теперь как угодно издеваться над этим человеком. Впрочем, Суворов делает то же самое по отношению ко всем, о ком пишет: о Жукове, Тухачевском, Якире, Блюхере и всех остальных. Еще бы: чего стоят все подвиги этих боевых командиров, вовсе не идеальных, морально и политически не безупречных, но предельно мужественных и самоотверженных людей, по сравнению с достижениями, скажем, Владимира Богдановича Резуна! Впрочем, конечно, не Телегину принадлежит главная заслуга в спасении Москвы от немцев, а Гитлеру. И дело, конечно, не только в том, что он прокукарекал по радио на весь мир о своей так и не состоявшейся победе, тем самым практически сорвав ее (хотя никто, конечно, не мог ожидать, что это выступление окажется раскрытием противнику важнейшей военной тайны! — в такой идиотизм и в соответствующее профессиональное ничтожество противника поверить было абсолютно невозможно!), а в других его решениях и поступках, действительно сделавших эту победу нереальной, но об этом нужно писать уже следующую книгу. Но не ставить же при этом памятник Гитлеру на Манежной площади! В контексте же нашего повествования особенно показательно именно это кукареку о собственном еще незавершенном успехе: злейший враг Гитлера снова его подвел! Заметим, притом, что этот дурацкий поступок Гитлер совершил в возрасте 52 лет — это также весьма напоминает катастрофы, которые устраивали сами себе предки Гитлера, — это типичная черта их всех, подобным кукареканьем сплошь и рядом лишавших себя уже казалось бы обеспеченной победы! Именно таким образом Гитлер и поступал на протяжении всей своей жизни, начав с описанной ситуации в Шпитале летом 1908 года, сломавшей, повторяем, всю его последующую жизнь. 4.4. Совращение Адольфа Гитлера.Что должен был немедленно предпринять Гитлер, разбуженный проходившей молочницей ясным летним утром 1908 года на дороге в Шпитале? Разумеется, немедленно бежать в Вену: с похмелья он не мог даже вспомнить (и так, возможно, никогда не вспомнил и в точности не узнал), что же именно он растрепал в пьяном виде в трактире накануне вечером. Но это были явно неуместные признания, сопровождаемые демонстрацией золотых или серебряных гульденов, извлеченных им из карманов. Какие именно подробности совершенных им преступлений он сумел огласить — этого, повторяем, он мог теперь и сам не знать. Но, судя по тому, что происходило позднее, в трещащей от похмелья голове Гитлера возникло нешуточное опасение, что вчерашние собеседники и собутыльники, тоже, конечно, основательно подвыпившие, могут сегодня, протрезвев и подумав, немедленно донести в полицию, а та, если поверит серьезности возведенного поклепа, также немедленно должна броситься хватать Гитлера. И, не дожидаясь этого, он должен был улепетывать сам. Мы не можем представить себе в точности, как он мог конкретно решить: задержаться ли еще чуть-чуть, чтобы снова упрятать в тайник уже извлеченную и упакованную часть сокровищ, или немедленно выехать вместе с этой поклажей, рискуя быть пойманным с поличным в случае погони и ареста. Так или иначе, но в Вену он благополучно выбрался. Еще в январе-феврале 1908 года Гитлер, оформив получение наследства, должен был положить все законно приобретенные деньги в банк в Линце или Леондинге, а другие деньги (включая, вероятнее всего, «заем» у тетушки Иоганны) иметь при себе в наличном виде. Приехав в феврале в Вену, он должен был открыть новый счет, переведя на него все прежние накопления, или пользоваться старым, но уже из нового для него, венского отделения того же банка. Счет мог быть открыт и в прежние его приезды в Вену. Поэтому перевести на него деньги он мог сразу еще до окончательного выезда из Линца. На этот же венский счет, очевидно, стали поступать и ежемесячные выплаты «сиротской» пенсии. В любом варианте координаты его венского счета должны были иметься в банке и других официальных учреждениях в Линце и Леондинге. Кроме того, у Гитлера должна была иметься в Вене и банковская сейфовская ячейка, где он должен был держать свои заведомо нелегальные деньги и часть извлеченных сокровищ, еще не переведенных в современную денежную форму. Теперь, в августе 1908, добравшись до Вены, Гитлер, отрубая концы, связывающие его со Шпиталем, Линцем и Леондингом, должен был закрыть этот банковский счет, сняв с него все свои денежные накопления и опустошив сейфовскую закладку. Он, вероятно, мог сопроводить эту операцию устным или даже письменным сообщением в банке о том, что поступает так потому, что немедленно отбывает, допустим, в Гаити или Таити (если он знал такие названия!) — нужно было немедленно заметать следы! Лучше бы, заметим, ему действительно было отправиться туда или еще куда-нибудь подальше! Поэтому очередная выплата пенсии, начисленная Гитлеру с 1 августа 1908 года, вернулась назад к учреждению-отправителю — наверняка с формулировкой: данный счет больше не существует. И в дальнейшем Гитлеру деньги более не высылались, но он, как рассказывалось, получил их позднее, передав часть накопленной суммы в 1911 году в пользу своей сестры Паулы и забрав себе все накопленные остатки в мае 1913 года. Любопытно, однако, что Гитлер оставался проживать в квартире, где ранее жил и Кубицек, вплоть до 18 ноября 1908 года — это определенно утверждает Мазер.[1040] Это означает, что Гитлер не опасался того, что в результате доноса, предположительно совершенного в Шпитале, его немедленно будут разыскивать именно по этому адресу. Это очень интересно и существенно! Очевидно, что родственники Кубицека, знавшие ранее этот адрес от самого Кубицека, теперь могли не связывать этот адрес с Кубицеком и Гитлером совместно, поскольку знали, что Кубицек отбыл в армию, а что было с Гитлером — они не знали или были целенаправленно ложно информированы об этом. Это и внушало спокойствие Гитлеру, который пока еще пребывал в молодой неопытности и не понимал того, насколько эффективно может всерьез работать полиция. Зато совершенно очевидно, что этого адреса изначально не знал никто из родственников и знакомых Гитлера в Шпитале, Леондинге, Линце и в самой Вене — иначе Гитлер немедленно должен был покинуть это жилье! Он же, повторяем, оставался там порядка трех месяцев — и бесследно исчез оттуда якобы только накануне возвращения Кубицека из армии. Это означает, что Гитлер с самого февраля 1908 года фактически скрывался от всех родственников без исключений, даже и от тех, к которым заявился в Шпиталь в августе 1908. Это — красноречивая характеристика того, насколько прочно подвел черту Гитлер под всем своим прошлым еще в самом начале 1908 года! Это же — косвенное свидетельство максимальной серьезности и преступности того, что он совершал в прежние времена, в особенности — в самый последний период, связанный со смертью матери. Обратим внимание и на такую подробность: что-то не склеивается в рассказе Кубицека. Если Гитлер действительно оставался в их прежней квартире до 18 ноября, то это существенно перекрывает по времени двухмесячную службу Кубицека в армии, начавшуюся еще в августе. Действительно ли Кубицек не виделся с Гитлером после возвращения? Действительно ли Гитлер «не хочет» с ним «встречаться» и «не оставляет ему даже своего нового адреса»?[1041] Или это заявление Кубицека, сделанное через тридцать лет, — вынужденный его шаг, подчеркивающий, что ни о чем последующем он свидетельствовать не собирался — явно пытаясь тем самым сохранить свою жизнь в годы правления Гитлера? Если это так, то тогда имеет смысл присмотреться и к содержанию некоторых интересных свидетельств Кубицека, поскольку они могут относиться по существу к гораздо более поздним временам, чем лето 1908. Хотя ныне бытует мнение о том, что записки Кубицека — «смесь фантазии и правды»,[1042] но нам представляется, что они наполнены особым смыслом — подобно тем же показаниям Гестапо-Мюллера, ни в коем случае не являющими собой чистую правду. Согласно сведениям Мазера, основанным, очевидно, на данных венской полиции, с 18 ноября 1908 по 20 августа 1909 года Гитлер снимает комнату по адресу — Felberstr., 22.[1043] С 20 августа по 16 сентября 1909 года Гитлер живет на Sechshauserstr., 58.[1044] С 16 сентября по ноябрь 1909 года Гитлер снимает уже не комнату, а угол в квартире на Simon-Denkgasse.[1045] Мазер по-видимому прав, когда комментирует это следующим очевидным образом: с 1909 по 1914 год Гитлера «ищет /…/ австрийское военное ведомство, которое не может призвать его на военную службу, так как не знает, где он находится»[1046] — это, по крайней мере, соответствует тому, как должны были вести себя власти в соответствии с законом. Это должен был понимать в свое время и Гитлер, зная притом, что это — не единственный возможный мотив полицейских поисков. По мере того, однако, как шло время, становилось все более похожим, что едва ли Гитлера ищет полиция по подозрению в совершенных убийствах или крупной краже — в соответствии с предполагаемым доносом в Шпитале: если бы полиция искала его как серьезного преступника, то делала бы это, можно было полагать, гораздо энергичнее. Здесь же, скорее всего, дело ограничивалось тем, что сначала уточнялся адрес Гитлера, затем ему присылалась призывная повестка, затем он менял адрес, затем все повторялось. Но если все действительно происходило подобным образом, то на месте Гитлера следовало бы удивляться странной удачливости подобной схемы для него. Несколько забегая вперед, мы можем предположить, что уверенность Гитлера могла иметь определенные объективные основания: неповоротливая бюрократическая машина могла смазываться регулярными взятками, получаемыми от него. Но для этого он должен был уметь их давать, а сложность тут в том, чтобы не ошибиться в оценке готовности представителей власти к получению взятки. Гитлер притом, повторяем, должен был все более надеяться на то, что его шпитальские собутыльники все-таки не поверили его чудовищным саморазоблачениям, хотя и подкрепленным вещественными доказательствами в виде продемонстрированных монет. Беда в том, что по мере того, как его убежденность в счастливом завершении шпитальского инцидента должна была укрепляться, одновременно возрастала его собственная вина в злостном уклонении от призыва в армию: с каждой задержкой в решении этого вопроса он становился все более очевидным дезертиром! Поэтому скрываться ему приходилось все тщательнее! В целом складывалась совершенно тупиковая ситуация! Уехать из страны Гитлер по-прежнему не рисковал: он, во-первых, никак не мог решиться уехать далеко от оставленных им в Шпитале сокровищ, во-вторых — все еще не решался снова заявиться за ними в Шпиталь и, в-третьих, должен был опасаться при нелегальном пересечении границы того самого задержания, которого и пытался избежать. В результате Гитлер психологически превращался в такого же зайца, совершающего якобы спасительные прыжки, каким был его дед Георг Хидлер! Существенно, что теперь это происходило не в контрабандистском раю в глуши богемских лесов, а посреди столицы империи. Как можно было скрываться в такой ситуации, не заручившись поддержкой достаточно влиятельных людей в столице? Очевидно, что никак! — и Гитлер просто был обязан попытаться обзавестись такой поддержкой! Что при этом должно было происходить с его финансовыми накоплениями, положенными, разумеется, в какой-то другой венский банк? Понятно, что они должны были уменьшаться, ничем при этом не восполняясь: совершенно неизвестно о том, чтобы Гитлеру в это время удавалось занимался хоть какой-нибудь полезной деятельностью, приносящей ему существенные доходы. Должны ли были сократиться в результате его финансовые запасы до самого нуля? В этом нужно очень и очень сомневаться: во-первых, уж больно велики изначально были эти запасы (хотя при желании и при необходимости можно быстро растратить сколь угодно много!); во-вторых, даже очень молодой Гитлер был достаточно разумным и расчетливым человеком, чтобы не тратить последнюю копейку: было бы весьма естественным, чтобы он наложил мораторий на собственные траты при снижении денежных запасов до какого-то низкого критического уровня — одна тысяча крон? две? три?.. Могло быть и так: проблемы с пропиской в полиции явно сокращали периоды времени, когда он задерживался на новом постоянном месте жительства — его, похоже, действительно искали. Поиски эти могли распространиться и на поиски его банковского счета. Это могло происходить и по-настоящему, а могло просто показаться мнительному Гитлеру: предположим, направляясь как-то в банк за деньгами, Гитлер вдруг заметил стоящих поблизости от банка полицейских, и решил что это — подготовленный ему арест; и с того момента он мог вообще не появляться в своем отделении банка! На Гитлера и многих его родственников такое очень походило бы! Недаром тот же Георг Хидлер так и потерял (скорее всего — зазря) подобающее ему родительское наследство, вынужденно уступив его младшему брату Иоганну Непомуку! В результате Гитлер действительно мог дойти до настоящего голода, даже еще не успев разориться. Голодающий богач Гитлер — это нечто!!! Так или иначе, но в ноябре 1909 Гитлер докатился до ночлежки для бездомных: его местожительством стало Meidlinger Obdachlosenasyl (Мейдлингское убежище для бездомных); в это же время он якобы работал днем на подсобных работах.[1047] Гитлеру определенно не нравилось об этом вспоминать — это очень заметно по тексту «Майн Кампф». Вот как пишет Гитлер, имея в виду себя самого: «Найти работу мне было нетрудно, так как работать приходилось как чернорабочему, а иногда и просто как поденщику. Таким образом я добывал себе кусок хлеба».[1048] А вот как он, якобы углубившись в философский анализ проблем других молодых людей, пишет об этих других (все на той же странице!): «деревенский парень приходит в большой город, имея в кармане кое-какие деньжонки. Ему не приходится дрожать за себя, если по несчастью он не найдет работы сразу. Хуже становится его положение, если, найдя работу, он ее быстро потеряет. Найти новую работу, в особенности в зимнюю пору трудно, если не невозможно. Несколько недель он еще продержится. /…/ ему приходится бродить по улицам на голодный желудок, заложить и продать последнее; его платье становится ветхим, сам он начинает все больше опускаться физически, а затем и морально. Если он еще останется без крова (а это зимой случается особенно часто), его положение становится уже прямо бедственным. Наконец он опять найдет кое-какую работу, но игра повторяется сначала. /…/ Постепенно он научится относиться к своему необеспеченному положению все более и более безразлично. Наконец повторение всего этого входит в привычку».[1049] Поразительно, но ни сам Гитлер, ни его читатели не узрели здесь никаких противоречий: уж либо одно, либо другое! Можно полагать, что все последнее относится именно к самому Гитлеру — по меньшей мере в течение осени и начала зимы 1909 года: «Конрад Хейден, автор первой значительной биографии Гитлера, установил, что в это время Гитлер, оказавшись в «горькой нужде», был вынужден несколько ночей провести без крыши над головой и пока не наступили холода ночевать на скамейках в парке и в летних кафе».[1050] В ночлежке, которая выручила его от холода, Гитлер и встретился со своим спасителем — Райнхольдом Ханишем, гораздо более опытным и толковым товарищем, не обуреваемым сверхъестественными амбициями, притом не чуждым искусству и вскоре оценившим художественную квалификацию Гитлера, хотя: «Прежде чем Ханиш предложил продавать картины, они жили попрошайничеством, переноской багажа пассажиров на западном вокзале /…/ или убирали снег на улицах».[1051] Кнопп, однако, замечает: «У нас нет доказательств того, что Гитлер просил милостыню».[1052] Далее благодаря новому знакомцу положение выправляется: «Райнхольд Ханиш, с которым Гитлер познакомился во время кратковременного пребывания в приюте для бездомных, быстро и чаще всего выгодно продает картины оптовым и частным покупателям. Выручку они с Гитлером делят пополам. Гитлер пишет в «Майн кампф»: «В 1909–1910 гг. мое положение… несколько изменилось… Я работал тогда самостоятельно, рисуя небольшие картины и акварели». Ханиш подтвердил эту информацию, добавив, что «иногда удавалось получить очень хороший заказ», так что «жить было на что. Но в хороших художественных магазинах работы никогда не принимали /…/».»[1053] Отметим: «Гитлер считал, что сам он не в состоянии продавать свои работы, потому что «в своей поношенной одежде он не смотрится».»[1054] Трудно назвать это настоящим художественным творчеством, хотя Мазер и некоторые другие поклонники Гитлера пытаются создать такое впечатление: «Покупателями картин Гитлера, которые он подписывает «А. Гитлер», «Гитлер» «А.Г.» или «Гитлер Адольф» и после августа 1910 г. в большинстве случаев сам вручает заказчикам, чаще всего были представители еврейской интеллигенции и коммерческих кругов. Даже в 1938 г., когда акварели Гитлера продавались по цене от 2 до 8 тысяч марок, среди владельцев картин Гитлера периода 1909–1913 гг. были такие люди, как еврейский врач Блох, лечивший и мать Гитлера, и его самого [!!!], венгерский инженер еврейского происхождения Речай, венский адвокат доктор Йозеф Файнгольд, который с 1910 по 1914 г. поддерживал молодых способных художников, и продавец рамок для картин Моргенштерн. У многих владельцев отелей и магазинов в Линце и Вене, а также деятелей науки в 1938 г. было даже по несколько картин Гитлера периода «учебы и страданий в Вене». В замке Лонглит английского коллекционера Генри Фредерика Тинна, лорда Батского по-прежнему хранится 46 подписанных Гитлером картин периода до 1914 года».[1055] Понятно, что все эти сведения не имеют никакого отношения к объективной оценке художественных возможностей Гитлера. Факт, что его произведения были не настолько плохи, чтобы все они были выброшены на помойку в те годы, когда имя Гитлера было почти никому не известно. В то же время ценить их стали лишь тогда, когда имя их автора приобрело широкую популярность — отнюдь не в сфере художественного творчества! Изображения людей крайне слабо удавались Гитлеру.[1056] Но этим страдали многие мастера различных пейзажных жанров — даже такой гений, как Айвазовский. В то же время малоизвестный художник Сталин не оставил ни одного рисунка в цвете, ни одного изображения архитектурного сооружения, но вполне узнаваемо воспроизвел лицо деда автора этих строк.[1057] От Ханиша известно, что Гитлер редко создавал самостоятельные работы или даже вообще никогда этого не делал: он, якобы, просто копировал малоизвестные гравюры и картины прежних мастеров — достоверно выяснить это теперь уже, по-видимому, невозможно. Гитлер, до которого подобные слухи дошли в 1944 году, оскорбился и утверждал, что копированием не занимался![1058] Вполне определенный жизненный сдвиг у Гитлера произошел вскоре после его знакомства с Ханишем: оба они накануне Рождества 1909 года (незадолго до 25 декабря) оказались постояльцами некоего мужского общежития на Meldemfnnstr., 27.[1059] Лишь с этого-то момента времени, заметим, Гитлер и получал возможность заняться своими художественными поделками — где он еще мог бы это делать посреди зимы, будучи бездомным? Поэтому материальный сдвиг в быту Гитлера произошел не в результате успехов его художественного творчества, а предшествовал им, имея, таким образом, какую-то иную первопричину. Эта-то невыясненная основа и обеспечила, как минимум, перемещение из ночлежки в общежитие, вовсе не бывшее, как будет показано ниже, благотворительным учреждением для нищих. Историки, пытавшиеся отыскать все подробности жизни и быта Гитлера, установили, что для него это общежитие оставалось затем постоянным местом дальнейшего жительства в Вене; правда, непрерывность проживания там Гитлера до июня 1910 года документально не подтверждена; зато с 26 июня 1910 и до 24 мая 1913 года, согласно полицейской регистрации, Гитлер постоянно проживал исключительно по этому адресу.[1060] Это означает, кроме всего прочего, что именно до 26 июня 1910 года и были утрясены все претензии властей к Адольфу Гитлеру и все претензии Адольфа Гитлера к властям. Как же это вообще могло произойти? Вариантов ответа на этот вопрос очень немного. Первый состоял в том, что Гитлер все-таки попался бы тем, кто его разыскивал. Далее — вроде бы очевидные последующие возможности: он был бы освобожден от воинской обязанности по состоянию здоровья (так именно и произошло, но только в начале 1914 года), при этом его могли бы подвергнуть штрафу за все-таки немотивированные уклонения от призыва (что в 1914 году сделано не было); поскольку он не был очевидным инвалидом (и достаточно успешно сражался в германской армии в 1914–1918 годах!), то его могли попросту засунуть в армию и заставить отслужить по полной железке, а наихудшая возможность состояла в попадание под суд с перспективой оказаться в тюрьме на не очень длительный срок. Другой вариант состоял в том, что Гитлер должен был отыскать каких-нибудь влиятельных покровителей, которые утрясли бы его конфликт с военными властями и с государственной полицией, исполняющей волю последних в подобных ситуациях. В реальности же получилось нечто странное. С одной стороны, власти вроде бы пытались отыскать Гитлера еще в 1908 году, почти наверняка в 1909 и, может быть, даже в начале 1910 года: они, по крайней мере, должны были так поступать, а Гитлер притом, вроде бы, проявлял типичное поведение прячущегося дезертира. Вслед за тем Гитлер удивительным образом вовсе ничего не опасался со стороны властей, когда в августе 1910 подавал в суд на Ханиша (об этом — ниже), весной 1911 разбирался в судебном конфликте с собственной сестрой Паулой, а в мае 1913 извлекал из государственных органов недоплаченную ему «сиротскую» пенсию, а затем без препятствий выехал за границу! Еще позднее, в январе 1914, австрийские власти вновь неожиданно проявили заинтересованность в Гитлере, уже переселившимся в Германию, хотя и этот конфликт между ними вроде бы завершился миром: Гитлер был освобожден от службы по состоянию здоровья — притом с совершенно издевательскими по отношению к нему формулировками, обосновывающими такое решение. Что же происходило? Рассмотрим внимательнее реальные возможности Гитлера. Каким вообще образом он мог обзавестись покровительством достаточно авторитетного лица, способного помочь ему в конфликте с властями? Конечно — лично понравиться кому-нибудь. И в этом у Гитлера имелись различные и очень неплохие возможности. Кубицек свидетельствует о том, что еще во времена их совместного проживания в Вене Гитлер привлекал внимание и зрелых дам,[1061] и вполне определенных гомосексуалистов, знакомство с одним из которых описано Кубицеком. Воспроизведем этот последний рассказ, имея в виду необходимость затем заново возвращаться к нему: «На углу Мариахильферштрассе и Нойбау-гассе однажды вечером с нами заговорил хорошо одетый мужчина приличного вида и спросил, чем мы занимаемся. Когда мы объяснили ему, что мы студенты, изучаем музыку и архитектуру, он пригласил нас на ужин в отель «Куммер». Там он предложил нам заказать все что хотим… При этом он рассказал, что он фабрикант из Феклабрука, не заводит знакомств с женщинами, так как они хотят только денег. Мне особенно импонировали его суждения о музыке, которая ему очень нравилась. Мы поблагодарили его за ужин, он проводил нас на улицу, и мы пошли домой. Дома Адольф спросил, как мне понравился этот господин… «Это гомосексуалист», — объяснил мне Адольф со знанием дела… Мне показалось само собой разумеющимся то отвращение и презрение, с каким Адольф относился к этому и всем другим сексуальным извращениям большого города. Он отвергал даже распространенный среди молодых людей онанизм и во всех сексуальных делах придерживался строгих жизненных правил, которые он намеревался установить и в своем будущем государстве».[1062] Последняя фраза вызывает, разумеется, особенно скептическое отношение: ну как можно проверить, что кто-то отвергает онанизм — даже если это сосед по общей комнате? Да и не должен был Гитлер венского периода рассуждать о своем будущем государстве — это понятное сочинительство Кубицека, отражающее ситуацию уже 1938 года! Одинокому молодому мужчине как раз подобало бы иное отношение к онанизму, а вся биография Гитлера заставляла задумываться на вполне определенные темы: «Психолог может написать целую книгу о Гитлере [их и написаны десятки, если не сотни!], начав с описания самого себя в «Моей борьбе» как Mutterrsohnchen — маменькиного сынка. Гитлер писал, что он вырос из этого состояния [еще бы!], но на самом деле это было не так. Германии и всему миру еще постояло пострадать от того, что у Гитлера психологические проблемы подобного типа людей разрослись до демонических масштабов. Движущей силой его стремления к власти была гиперкомпенсация его комплекса импотента-онаниста»,[1063] но импотент и онанист — вовсе не синонимы! С чем следует согласиться во всех подобных декларациях, звучащих абстрактно и напыщенно, так это с тем, что половая жинь Гитлера заведомо отличалась от нормы. Да и его отношения с Кубицеком носили, в этом определенном смысле, весьма подозрительный характер! Отметим и знание дела, проявленное Адольфом в рассказе Кубицека. Обратим внимание и на то, что «фабрикант», вроде бы, не напрашивался на продолжение знакомства. Существенно и то, что эпизод весьма запомнился Кубицеку, а происходить он мог, напоминаем, не только до кратковременной службы Кубицека в армии, но и после этого срока… Вот так-то, с другой стороны, и могло на самом деле происходить знакомство Гитлера с его будущим покровителем!.. Особенно, если у Гитлера уже не было собственных денег на ужин в солидном ресторане!.. Не имел Гитлер (по крайней мере — уже после Первой Мировой войны) и предубеждений против покровительниц. Гитлер навсегда сохранил притягательность для женщин, а в двадцатые годы многие зрелые дамы и помогали ему материально, и способствовали установлению им полезных деловых связей. «Готфрид Федер[1064] даже написал памфлет, в котором обвинял Гитлера в предпочтении «компании красивых женщин» его обязательствам в качестве главы партии рабочего класса».[1065] Генрих Манн писал вполне определенно: «Он начал свою карьеру при помощи зрелых женщин, которые предлагали ему свои услуги и стали его первой опорой. Он общался с ними только ради их денег, предпочитая, конечно, мужское безрассудство мальчиков. Он сам околдовывал людей женскими чарами».[1066] Мазер писал с явно оправдательным уклоном: «Ценности, полученные от «влюбленных женщин», он обычно использовал в качестве гарантий под предоставленные кредиты, с помощью которых ему удавалось поддерживать партию в трудных ситуациях»[1067] — и приводил конкретные примеры.[1068] Но рационально обосновывать собственное поведение могут любые проститутки и сутенеры!.. Никто из этих женщин не добился ничего — чего бы они ни добивались! Неизбежный последующий разрыв отношений сопровождался иногда маленькими демонстрациями, которые они могли себе позволить, например: «Фрау Бехштайн, которая была покровительницей и хорошей знакомой Гитлера еще десяток лет назад, получила от него жалкий букет цветов на свой день рождения, пришла к нему на прием и в лицо назвала ничтожным канцлером»![1069] Очевидно, однако, что Гитлер не был сексуальным гигантом — иначе бы об этом появилось не единственное позитивное свидетельство его возлюбленной (Марии Рейтер) за всю его жизнь, о котором мы упоминали выше. Наоборот, о Гитлере всегда велись раговоры прямо противоположного свойства. Например: «Первый шеф гестапо Рудольф Дильс в 1933 году имел более точные сведения о личной жизни нового рейхсканцлера, которые он кратко резюмировал следующим образом: ««Ведь он не спит с женщинами?» — спросил меня умный психиатр, который был уверен, что одержимый своей идеей не может сохранить нормальные человеческие интересы. Я согласился».»[1070] Идеи ли тут были виноваты или не идеи (все идеи, которые Гитлер якобы имел еще в 1908–1914 годах, явно были придуманы во время его работы над «Майн Кампф» в тюремном заключении в 1924 году[1071]), но Гитлер вполне определенно, повторяем, не был самцом-супергигантом, и в этом нет ничего особенно обидного для него — такие супермены попадаются достаточно нечасто. Иное дело в том, что возбужденным женщинам, желающим эксплуатировать привлекательного молодого человека, требуется именно что-нибудь не совсем обычное! О Гитлере же ходили такие определенные сведения и неопределенные слухи: «Он не умел плавать и не собирался учиться. В общем, я даже и не могу вспомнить, видел ли я его когда-либо в купальном костюме, никто другой тоже не мог этого припомнить. Ходила история, возможно правдивая, что старые армейские товарищи Гитлера, видевшие его в душевой, заметили, что его гениталии сильно недоразвиты, и он, без сомнения, стеснялся показывать свое тело другим».[1072] Так или иначе, но Гитлеру очевидно не могла удасться карьера альфонса, достигающего жизненного успеха, покоряя женщин в постели! Совсем иное дело — оказаться пассивным гомосексуалистом, развлекающим зрелых мужчин: для этого не требовалось никаких особых природных физических качеств, кроме привлекательности, которой Гитлер располагал в избытке! Но необходимо было, конечно, отсутствие определенного психологического барьера против развлечений такого рода. И, похоже, такого барьера у Гитлера в действительности не было: «мягко говоря, он не испытывал явного отвращения к гомосексуалистам»![1073] Вопреки верноподданничейским разглагольствованиям Кубицека, всю свою жизнь Гитлер откровенно восхищался многими известными гомосексуалистами: «Микеланджело был не единственным гомосексуалистом, которого взял себе за образец Гитлер. Он питал особенную склонность и к баварскому королю Людвигу II».[1074] Откровенным активным гомосексуалистом был, как известно, Эрнст Рем: «Гитлер совершенно точно никогда не имел никаких иллюзий по этому поводу».[1075] «[Карл] Эрнст, еще один гомосексуалист из лидеров СА, в тридцатых годах как-то намекнул, что ему хватает нескольких слов, чтобы успокоить Гитлера, когда по политическим соображениям тот начинал жаловаться на поведение Рема. Возможно, именно поэтому он тоже был расстрелян».[1076] Интересно, что Эрнст был арестован и расстрелян одновременно с Ремом, но притом Карл Эрнст в этот самый момент направлялся в свадебное путешествие вместе с вполне нормальной женщиной сразу после их свадьбы![1077] «После подавления путча Рема Гитлер тщательно вычистил из своего прошлого все явные проявления гомосексуальных наклонностей. Тем более бросалось в глаза подчеркнутое преклонение Гитлера перед личностью прусского короля Фридриха II, в военном окружении которого имелось социально акцентированное увлечение гомосексуализмом».[1078] Гитлера всегда тянуло к привлекательным мужчинам — мужественным и красивым; это отмечали все, близко сталкивавшиеся с ним после Первой Мировой войны. Примеров много, один из них — Вальтер Хевель, убитый среди прочих в Берлине 2 мая 1945 года. Они сблизились в заключении в Ландсберге: «Красивый сокамерник Гитлера молодой выходец с Рейна Вальтер Хевель был восхищен фюрером и уже не расставался с ним до конца жизни. В письме от 9 ноября 1924 года он описал всю силу гомоэротического воздействия своего соседа по камере: «Когда Гитлер берет твою руку и смотрит прямо в глаза, испытываешь нечто вроде электрошока и такое чувство силы, энергии, немецкости и всего самого лучшего, что только есть в этом мире».»[1079] Из той же оперы был и упоминавшийся Шпеер: «Гитлер желал, чтобы его любимец Шпеер всегда был поблизости. В Оберзальцберге у архитектора было ателье, выстроенное в альпийском стиле. Его красивая мастерская в Берлине также располагалась близ фюрера. /…/ Наблюдатели единогласно отмечали, что после встречи со Шпеером у Гитлера «всегда было приподнятое радостное настроение. Он был счастлив и воодушевлен».»[1080] Это помогает лучше понять, какие именно чувства влекли Шпеера в Берлин к Гитлеру 23 апреля 1945 года, а также и ту степень издевки над ним, какую проявил тогда Гитлер! Среди прочих называют Гесса и Геббельса, через край покоренных фюрером; но тут, скорее, коллизия противоположного свойства: оба этих не сильно внутренне уверенных в себе человека тянулись к более мужественному Гитлеру. Так что Гитлер явно излучал ауру различных цветов!.. Такие влечения позднейших времен, однако, почти наверняка уже не сопровождались практически никакой физической гомосексуальной близостью между Гитлером и его «возлюбленными» разных сортов: далее пожатия рук дело не шло — других свидетельств об этом нет! И это также очень легко понять: если Гитлер и был пассивным педерастом до Первой Мировой войны, то во время войны он должен был решительно отказаться от этого: за четыре года тоскливой окопной жизни он гарантированно превратился бы в «солдатскую девку», если бы его окопные товарищи распознали такую возможность пользоваться его телом. А это было бы такой утратой любого социального статуса, что гарантированно уничтожило бы всякую возможность активного воздействия Гитлера на окружающих в любой массовой среде при малейшем подозрении о таковой его роли. Да он и по-настоящему утратил бы в результате все остатки своей и без того не слишком высокой психологической потенции самостоятельного и уверенного в себе мужчины, никогда не смог бы стать политическим лидером массовой партии, а затем — целой нации! Так что все сексуальные опыты Гитлера в этом отношении были обязаны завершиться сразу в августе 1914 года! Это, однако, не исключает того, что до 1914 года основные особенности поведения и биографии Гитлера определялись его гомосексуальной сущностью и соответствующим образом жизни. Более определенно выяснить, в какой же форме происходила половая жизнь Гитлера тех лет (и происходила ли вообще) не представляется возможным. С одной стороны: «В современной исторической литературе нет никаких фактических подтверждений существования у Гитлера возлюбленной во время его проживания в Линце, Вене, Мюнхене».[1081] С другой стороны, хорошо известны страстные выпады Гитлера в «Майн Кампф» по адресу евреев, соблазняющих немецких девушек: «Черноволосый молодой еврей часами поджидает с сатанинской радостью на своем лице ничего не подозревающую девушку, которую он осквернит своей кровью и похитит ее у народа».[1082] Такого рода заявления принято считать проявлением зависти: «Сам дух обнаженной непристойности, неизменно идущий с тех страниц его книги «Майн Кампф», когда он пытается облечь в слова свое отвращение [к евреям], не является, разумеется, каким-то случайным внешним признаком или лишь воспоминанием о тоне и стиле /…/ бульварных брошюрок, /…/ — в значительно большей мере тут выражается специфическая природа его неосознанной зависти».[1083] Это — «широко распространенная теория Ольдена, Буллока и Ширера, что Гитлер стал антисемитом вследствие приписываемой ему зависти, возникшей на сексуальной почве».[1084] Но чему же завидовать, если самого Гитлера в те годы женщины попросту не интересовали? Однако, если никакой девочки на самом деле вовсе и не было, то, может быть, имелся мальчик? Не следует ли предположить, что это сам Гитлер виделся себе самому той самой ничего не подозревающей девушкой, которую и соблазнил черноволосый молодой еврей с сатанинской радостью на лице? Если так, то осуществиться это должно было еще до того, как происходила описанная Кубицеком встреча с «фабрикантом из Феклабрука»!.. Кто знает, когда это конкретно могло произойти: может быть, еще в первый (в мае-июне 1906) или во второй (в августе-октябре 1907) приезды Гитлера в Вену?.. Сам Гитлер, заметим, проявлял позднее значительные усилия к тому, чтобы вопрос об его сексуальной жизни данного периода не обрел ясности. В частности информация, о которой мы упоминали, — сообщение Гитлера Ханфштанглю (сделанное не ранее 1922 года) о том, что Гитлер якобы примерно с 1908 года болел сифилисом — служит той же цели: понятно, что человек, больной сифилисом, обязан вести сдержанную и осторожную половую жизнь или вообще сторониться ее — именно такого впечатления о себе и добивался Гитлер. Разумеется, сексуальной сферой не ограничивались возможности Гитлера, ищущего себе защиту от преследования властей, вызванного его уклонением от воинской службы. Деньги у него пока еще имелись, и он мог попытаться решить свои проблемы, откупившись от властей взяткой — об этом мы уже упоминали. Это было бы самым надежным способом решения всех проблем — в особенности в России. Но Гитлер-то жил не в России! Зато любому человеку, не имевшего в Вене никаких серьезных связей в сферах, заметно противостоящих закону и одновременно имеющих с ним соприкосновения, проще всего было бы обзавестись ими, обратившись к евреям: это наверняка и обеспечило бы каналом, по которому можно было бы рискнуть отдавать взятку, не опасаясь разоблачения в этот опасный момент. Масса евреев, в виду общего демографического кризиса в Восточной Европе и потока эмиграции из России после погромов 1905–1907 годов, заселяла тогдашнюю Вену. Евреи в принципе направлялись в Америку (некоторые — уже и в Палестину), но были непрочь задержаться надолго или ненадолго в столице империи, поддерживавшей гораздо более либеральную политику по отношению к евреям, нежели тогдашняя царская Россия с ее ограничениями в правах, чертой оседлости и, повторяем, массовыми погромами. Весь этот еврейский легальный, полулегальный и нелегальный поток искал покровительства у австрийских властей, и мог оказывать услуги в том же всем посторонним — не бесплатно, разумеется. Конечно, у Гитлера, основательно поистратившегося с весны 1908 года, уже в принципе не могло быть таких больших денег, чтобы легко подкупать полковников и генералов или полковничьих и генеральских жен или любовниц. Но такие значительные средства в общем-то и не требовались для достижения поставленных целей. И в царской России, и в Советском Союзе бытовала пословица: от армии освобождает не воинский начальник (в Советском Союзе говорилось — военком), а писарь! Действительно, чтобы заручиться благосклонностью бюрократической системы, вовсе не обязательно привлекать к себе благоволение ее верхних этажей. В любой иерархической системе мелкие клерки обладают почти неограниченной властью, будучи способны обеспечивать минимальные отклонения от буквального исполнения инструкций и законов, и доводя, тем не менее, при этом дело до радикальнейших результатов для заинтересованных сторон. Мы уже достаточно подробно рассматривали подобную коллизию, когда изучали особенности карьеры еще Алоиза Шикльгрубера. Несомненно, что Адольф Гитлер, заботливо воспитанный собственным отцом, должен был изначально неплохо ориентироваться в подобных возможностях, по крайней мере — теоретически. И когда он очутился во вполне понятной затруднительной ситуации 1908–1909 годов, то должен был самостоятельно опробовать такие варианты — следы и последствия таких попыток нетрудно объективно обнаружить. Сам Гитлер в «Майн Кампф» уверяет притом, что изначально относился к евреям по меньшей мере нейтрально: «Теперь мне трудно, если не невозможно, сказать точно, когда же именно я в первый раз услышал слово «еврей». Я совершенно не помню, чтобы в доме моих родителей, по крайней мере при жизни отца, я хоть раз слышал это слово. Мой старик, я думаю, в самом подчеркивании слова «еврей» увидел бы признак культурной отсталости. /…/ Только в возрасте от 14 до 15 лет я стал частенько наталкиваться на слово «еврей» — отчасти в политических беседах. /…/ В Линце евреев жило совсем мало. /…/ О том, что существует уже какая-то планомерная организованная борьба против еврейства, я не имел представления. В таком умонастроении приехал я в Вену».[1085] Кубицек противоречит Гитлеру, указывая на антисемизм его отца;[1086] но это неубедительно — Кубицек не был знаком с этой семьей при жизни отца Гитлера. Однако слово «еврей» Гитлер должен был слышать в школе — на уроках религии и истории, что и подтверждается нижеследующим: «Тон, в котором венская антисемитская пресса обличала евреев, казался мне недостойным культурных традиций великого народа. Надо мною тяготели воспоминания об известных событиях средневековой истории, и я вовсе не хотел быть свидетелем повторения таких эпизодов. /…/ действительно большая пресса отвечала антисемитам на их нападки в тоне бесконечно более достойном, а иногда и не отвечала вовсе — что тогда казалось мне еще более подходящим».[1087] Но еще через несколько лет Гитлер пребывал в совсем иных настроениях: «Постепенно я начал их ненавидеть. Я научился уже понимать язык еврейского народа /…/. Еврей говорит для того, чтобы скрывать свои мысли или, по меньшей мере, для того, чтобы их завуалировать. Его подлинную цель надо искать не в том, что у него сказано или написано, а в том, что тщательно запрятано между строк. Для меня наступила пора наибольшего внутреннего переворота, какой мне когда-либо пришлось пережить. Из расслабленного «гражданина мира» я стал фанатиком антисемитизма».[1088] Что же послужило этому перевороту? Кроме общих слов, у Гитлера нет никаких объяснений. И как, позвольте понимать, можно ненавидеть то, что ни сказано, ни написано, ни даже прочитано между строк? Заметим, однако, что маленькие клерки всесильны лишь тогда, когда занимаются собственными делами, вроде бы не находящимися под контролем начальства: в противных случаях маленькие клерки так и остаются маленькими клерками, которые вынуждены беспрекословно исполнять волю высших руководителей! А как же обстояло дело в этом смысле в ситуации Гитлера в 1908–1909 годах? Мы упорно повторяем, что никаких дальнейших трудностей (тех самых, что и вошли в реально осуществившуюся историю) у Гитлера и не должно было бы возникнуть, если бы он не распустил свой язык в шпитальском трактире. Сам Гитлер мог еще какое-то время надеяться на то, что такие трудности так и не возникли. Но, похоже, получилось совсем по-другому. В Шпитале хорошо знали и помнили Пёльцлей: дедушку и бабушку Адольфа Гитлера, а также и сестру последней Вальбургу Роммедер — все они прожили там долгие жизни, а похоронили их не так уж давно. Должны были помнить там и отца Гитлера — Алоиза. Молодая же мать Гитлера совсем недавно появлялась в родных краях — и была тогда еще достаточно здоровой и цветущей женщиной. Теперь никого из них не было в живых, а приезд в Шпиталь их общего наследника Адольфа Гитлера вполне мог стимулировать толки о странном ходе событий во всем этом семействе. Пьяные же откровения Гитлера могли произвести впечатление разорвавшейся бомбы: все толки, неясные подозрения и сомнения объединились в результате его признания в едином сюжете, а упорная попытка Адольфа продемонстрировать собравшимся в трактире то, что он добрался и до запрятанных семейных сокровищ, которые некогда существовали абсолютно у всех в данной местности (!), придала особый колорит и убедительность всем мыслям и чувствам, какие возбудились подобным поворотом событий у всех шпитальцев. Первоначальная реакция слушателей Гитлера утонула во вполне естественном для них пьяном добродушии — большинство немцев и австрийцев не звереет от выпивки. Поэтому-то Гитлеру и позволили унести ноги сначала из трактира, потом и из Шпиталя вообще. Но в течение следующих дней бедная на новости и события деревенская жизнь побудила свидетелей переосмыслить и переобсудить все происшедшее — и не было бы ничего удивительного в том, что чьи-то сердца загорелись бы жаждой справедливости и возмездия. Достаточно было бы хотя бы одному из этих деревенских правдоискателей проявить непреклонную настойчивость — и местным полицейским властям пришлось бы принять формальное заявление и официально открыть дело об убийстве и ограблении значительного числа почтенных местных жителей, членов католической общины; далее вступали в ход общие законы движения бюрократической полицейской машины — начатое дело было обречено катиться до какого-либо стандартного завершающего акта. С самого начала такое расследование не должно было сулить ничего привлекательного местным полицейским властям. Вот если бы Гитлер был схвачен ими на на месте — тогда бы у них еще были бы шансы самостоятельно раскрутить подобное дельце. Теперь же они не могли даже арестовать Гитлера, поскольку не знали, где он находится. Не было у них и достаточных бесспорных оснований для возбуждения вопроса о таком аресте: сам по себе лишь пьяный треп какого-то молокососа — это лишь повод для дальнейшего серьезного расследования, безнадежного для местных полицейских хотя бы по причине значительной пространственной разнесенности событий, затронутых прозвучавшим признанием. Поэтому местная полиция поначалу должна была всячески отбиваться от заявителей, охваченных энтузиазмом. Но, хотя у полицейских всегда имеется немало возможностей заглушать дела, которые их не устраивают, иногда им все-таки приходится подчиняться особенно усиленному давлению публики, на стороне которой ее законные права! Здесь-то и создалась вопиюще заметная ситуация, нашедшая идиотское (извиняемся за справедливое в данном случае выражение!) объяснение у историков типа Мазера: «Живущие в Шпитале его дяди и тетки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы после последнего отпуска [Гитлера] с фронта (с 10 по 27 сентября 1918 г.) больше никогда не видели его воочию. /…/ Гитлер избегал встреч с большинством из своих родственников не потому, что они были «недостаточно хороши» для него, а из опасений, что они начнут жаловаться ему на что-нибудь или просить об одолжении, что могло вылиться ему во «вредную семейственность». Это он постоянно ставил в упрек Наполеону I как грубую политическую ошибку».[1089] Но никаких политических ошибок тут не было и быть не могло — ни у Гитлера, ни со стороны родственников последнего: каких-таких одолжений могли бы домогаться шпитальцы, чтобы излишнее потакание им могло бы вылиться в политическую ошибку?! Объяснение Мазера абсолютно несостоятельно: главное-то тут было в том, что шпитальские родственники никогда не обращались к Гитлеру за помощью! Но почему же они этого не делали? Был, что ли, издан специальный декрет, запрещающий им любые такие просьбы? Или они обязаны были знать, как отзывается о Наполеоне их великий родственник в кругу ближайших приближенных? Вот разглагольствования о Наполеоне, действительно тащившим своих родственников на высочайшие должности, не случайно появлялись в беседах Гитлера с Герингом, Геббельсом, Гиммлером и всеми прочими: те должны были поражаться тому, почему родственники Гитлера не осаждают его просьбами, в то время как их собственные родственники ведут себя противоположным и вполне понятным образом — и Гитлеру приходилось оправдываться столь хитрым способом! Ясно, что шпитальцы вполне основательно вложились в обвинение своего родственничка в 1908 году в убийствах и кражах, и не их вина оказалась в том, что это не привело к окончательным и вполне оправданным результатам. Позднее это должно было привести их к разочарованию — и в их поредевших рядах Гитлер уже не обнаружил должного возмущения и отпора при своем появлении в 1917 и в 1918 годах. Характерно, однако, что еще позднее он все-таки предпочел там совсем не возникать — задолго до того, как достиг положения, привлекающего какие-либо возможные просьбы и ходатайства! А вот после прихода Гитлера к власти сначала в Германии, а затем и в Австрии, всех шпитальцев должен был охватить подлинный ужас. Им оставалось ждать лишь мести с его стороны — о каких контактах и жалобах тут могла идти речь?!. Характерно, что все их потомки уже после Второй Мировой войны практически ничего не могли рассказать историкам: настолько прочным оказался заговор молчания, охвативший эти места задолго не только гибели «тысячелетнего» Рейха, но и его провозглашения! Совсем как в стародавние разбойничьи времена!.. Гитлер же, уничтоживший миллионы людей во множестве стран, никак не мог решиться сделать что-либо устрашающее и карающее по отношению к собственным родственникам и их односельчанам, как бы ни желал этого: тогда бы его собственную вину было бы чрезвычайно трудно укрыть даже от верноподданых ученых-гитлероведов! У местной полиции, вынужденно повесившей на себя в 1908 году безнадежное дело обвинения будущего диктатора (о чем тогда никто не мог догадываться!), появлялась забота, которую требовалось разрешать вполне определенным образом: обставить поневоле сложившуюся ситуацию так, чтобы не выглядеть затем полными идиотами в глазах собственного непосредственного начальства. Поэтому, в конце концов, когда формально были приняты исходные заявления шпитальцев, то начались и определенные розыскные действия, долженствующие затем представить усилия местной полиции в позитивном свете. Все сообщенные сведения были, насколько возможно, объективно проверены, различные показания сопоставлены, а при необходимости дополнены и исправлены, собраны все необходимые справки о прошедших временах, представлены копии соответствующих актов — и на это должно было уйти немало времени. В таком виде дело, не возбуждавшее теперь никаких сомнений в обоснованности местной инициативы, и начало свое плавание по полицейским инстанциям, пока не причалило на каком-то достаточно высоком уровне уже в полицейском управлении города Вены. К этому времени упомянутый Кубицек уже должен был заканчивать свой кратковременный срок службы в армии и возвращаться в Вену. В Вене могли двояко отнестись к присланному из провинции кирпичу бумаг: сразу проявить к нему интерес или поначалу отмахнуться от такой непрошенной инициативы снизу. В любом варианте законы бюрократии — это законы бюрократии: присланное дело нельзя было так просто выбросить в корзину. Следовало, как минимум, допросить подозреваемого Адольфа Гитлера, вынести квалифицированное заключение, что все обвинения — полный бред, отправить дело в архив, а в сторону Шпиталя — благожелательное пожелание работать получше! Однако странная невозможность вот так, сразу, найти этого Адольфа Гитлера, чтобы допросить и отпустить его, не позволила осуществиться простейшему и немедленному результату: никто, почему-то, не смог объяснить, где же этот Гитлер находится сию минуту — и это в стране с тотальной пропиской! И вот это-то возникшее недоумение в свою очередь послужило дополнительным основанием к стремлению полиции к знакомству с объектом обвинений. Вот тут-то и сыграло роль то, что полицейское управление Вены было не совсем обычным учреждением среди аналогичных заведений во всех прочих европейских державах. Так уж почему-то сложилось, что это управление оказалось как бы полноценным филиалом военной разведки и контрразведки, что получалось далеко не в каждой стране. Например, один из виднейших российских военных разведчиков и контрразведчиков накануне и во время Первой Мировой войны, генерал Н.С. Батюшин сожалел: «Постоянной головной болью для руководителя являлось все, связанное с установлением правильных служебных отношений с сотрудниками пограничных и таможенных служб и особенно — с жандармскими и полицейскими чинами».[1090] Максимилиан Ронге был офицером австрийского Генерального штаба. С 1907 года он поступил на службу в разведывательное бюро данного штаба, позднее заведывал агентурным отделением этого бюро, с апреля 1914 года возглавил само бюро — и оставался на данном посту до конца Первой Мировой войны. Рассказывая в своих воспоминаниях о многочисленных трудностях работы еще в довоенное время (а у кого не бывает трудностей на службе?), Ронге утешался лишь одним: «Светлым моментом были хорошие отношения с полицейским управлением г. Вены. Начальник этого управления содействовал совместной работе толково и предупредительно. Если бы все гражданские учреждения относились хотя бы приблизительно так к генштабу, как полицейское управление г. Вены, то в монархии дела обстояли бы совсем по-иному и многого можно было бы избежать. Не было даже малейших расхождений, все обдумывалось совместно и также совместно проводилось в жизнь. Все клеилось, и обе стороны радовались успехам. Не менее сердечными были мои отношения с венским прокурорским надзором, а также и с теми чиновниками венского высшего судебного трибунала по уголовным делам, с которыми я входил в соприкосновение как военный эксперт».[1091] Понятно, что необычное дело, вызвавшее повышенный интерес у кого-то в венской полиции, немедленно было взято в совместное изучение вместе с контрразведчиками: ведь подобные истории не валялись на земле повсеместно! Хотя, нужно заметить, всем военным было тогда не до таких мелочей: осенью 1908 года как раз разразился Боснийский кризис (Австро-Венгрия объявила об «окончательной» аннексии Боснии и Герцеговины), вызвавший бурю страстей и в соседней Сербии, и в России, да и в прочих европейских державах. Вплоть до февраля 1909 на повестке дня стоял вопрос о возможном военном столкновении между Австро-Венгрией и Россией — это означало бы и общеевропейскую войну. Понятно, что в такой ситуации разведчики и контрразведчики сбивались с ног: «Число подозреваемых в шпионаже в Австро-Венгрии возросло с 60 (в 1908 г.) до 150 в следующем году, причем мы были убеждены, что еще большее количество шпионов осталось невыясненными».[1092] Вполне понятно, что весь этот накал международных страстей гораздо незначительнее захватил самого Адольфа Гитлера, нежели уже проявивших к нему интерес профессионалов в Австро-Венгерском Генеральном штабе, не имевших, однако, практической возможности энергично действовать на периферийных участках собственных интересов. Вынужденная неторопливость, тем не менее, пошла на пользу их осторожности — и дополнительно усыпила бдительность еще неопытного Гитлера. Это тем более объясняет неожиданность всего последующего для Гитлера, хотя нисколько не оправдывает опрометчивость принятой им собственной стратегии. В подобных ситуациях Гитлер никогда не признавал себя виновным в совершенных ошибках, но обвинял в них других, кому и приходилось затем жестоко за это расплачиваться. Вот и в данном случае слепота Гитлера послужила фундаментом для его чудовищных дальнейших претензий к совершенно посторонним людям. По мере того, как внешнеполитические страсти несколько успокаивались, присланное из Шпиталя дело было внимательно изучено и, возможно, сразу же были произведены дополнительные розыскные действия, недоступные для провинциальных коллег венских шерлок-холмсов. Например, фамилия Шикльгрубер, наверняка названная в определенном контексте в присланных бумагах, могла побудить к получению соответствующей исторической справки — в результате всплыло судебное дело 1821 года. Из него логически следовало то же, что из него же и извлек Алоиз Шикльгрубер еще в 1860-е годы: разбойничий клад имел место быть — и властями изъят не был. Все присланное дело приобрело в результате вполне определенный смысл, а потому взглянуть на Адольфа Гитлера захотелось еще сильнее. Разумеется, не за один день, а за несколько дней или даже недель (с учетом ажиотажа вокруг Боснии-Герцеговины) адрес Гитлера был вычислен, и некий «фабрикант из Феклабрука» якобы случайно, изящно и ненавязчиво познакомился с Гитлером и его ближайшим другом. Учитывая все последующее, случившееся с Гитлером, автор этих строк вполне допускает возможность того, что этим «фабрикантом» мог оказаться даже сам Ронге. Последний, кажется, не был гомосексуалистом, но разыграть подобную роль, дабы не возбудить тревоги у изучаемого объекта, было вполне возможно для профессионала — заодно и проверить реакцию Гитлера на призывную манеру поведения вполне определенного стиля. Однако в такой роли было бы более естественно выступать другому лицу, которому и в дальнейшем предстояло работать с Гитлером. Ниже мы постараемся вычислить этого человека. Заметим, что личина гомосексуалиста, подчеркнуто надетая на себя таким ревизором, наверняка свидетельствует и о том, что начинающие охотники за Гитлером уже имели основания подозревать его в подобных наклонностях. Понятно, что Гитлер — это всегда Гитлер, достаточно ясно выражающий себя сторонним наблюдателям, а настоящий профессиональный контрразведчик — это всегда настоящий профессиональный контрразведчик. Гитлер был тогда еще в совсем юном возрасте — и не ему было тягаться с такими профессионалами. Последние пребывали на уровне, существенно превышавшем Алоиза Гитлера с его специальным опытом и все же провинциальным кругозором. Кто кого в данный момент сумел прочитать насквозь — в том сомнений быть не могло. «Фабрикант» выяснил все, чего хотел; главным же было четкое впечатление, что подозреваемый вполне соответствует характеру той роли, которую ему приписывало досье, присланное из Шпиталя. Гитлеру невероятно повезло, что теперь его судьбой занялась контрразведка: в противном случае уже в 1908 или 1909 году наступил бы окончательный исход его только начинавшегося жизненного пути: смертный приговор или длительный каторжный срок (практически минимум до революции 1918 года!) с абсолютно четким разъяснением гнусной сущности совершенных им преступлений. Едва ли это позволило осуществиться его дальнейшей политической карьере. Но зато не повезло всему остальному человечеству! Контрразведчиков вовсе не беспокоили вопросы торжества правосудия — их волновало совсем другое. Парнишка из провинции, убивавший родственников направо и налево, мог оказаться бесценным подарком для будущих задумок австрийских рыцарей плаща и кинжала. Ведь такие люди всегда руководствуются принципом: целесообразно это или нет — как и сам Гитлер! И за Гитлера взялись плотно и всерьез — вовсе не для того, чтобы его наказать. Как тут не вспомнить Гестапо-Мюллера?! Нельзя утверждать, что контрразведчикам совершенно сразу стало все ясно и понятно: впечатления — впечатлениями, но нужны были и доказательства — без них оказывались бы невозможны ни обвинения в уже совершенных преступлениях, ни последующая вербовка с помощью шантажа разоблаченного героя на абсолютно грязные роли — а какие еще роли можно было бы предоставить столь беззастенчивому и аморальному убийце? Первое, что следовало выяснить в кратчайшие сроки, это то, действительно ли располагал Гитлер крупными суммами нелегальных денег. Если это подтверждалось, то тем самым круг обвинений замыкался. Затем следовало брать Гитлера за горло, а для этого вытрясать из него безвозвратно по возможности все имеющиеся у него деньги. Сложившаяся ситуация подсказывала вполне естественные ходы для этого, не сулившие Гитлеру ничего хорошего. И Гитлер, и контрразведчики двинулись навстречу друг к другу: они — вполне сознательно и расчетливо, а он — наощупь и ошибочно полагая, что движется совершенно самостоятельно — и вовсе не к ним навстречу. Почти наверняка первым в оборот был взят Кубицек — он находился под рукой, более всех остальных знал о своем ближайшем друге, хотя о многом не догадывался, и располагал массой сведений, полезных для будущих вербовщиков самого Гитлера. Не случайно Кубицеку так запомнилась встреча с «фабрикантом». Не случайны и предельно осторожные формулировки Кубицека в его рассказе, адресованные, несомненно, к самому Гитлеру: Кубицек не отрицал, что помнил многое, но демонстрировал предельную сдержанность и лояльность. Мог Кубицек подчеркнуть этим рассказом и то, что запомнил черты лица этого «фабриканта». Характерно, что после этих показаний Кубицека, сделанных, как упоминалось, в 1938 году, и произошла личная встреча Кубицека с Гитлером в августе 1939 года. Гитлеру теперь понадобилось лично проинспектировать потенциальный источник возможных неприятностей — в то самое время, когда он и принимал самые серьезные политические решения в своей жизни! Вовсе не исключено, что Кубицек, явно умевший четко излагать собственные мысли и впечатления, при этой встрече дал понять Гитлеру, что его истинные воспоминания уже записаны, тщательно запрятаны и никогда не будут опубликованы, если только жизнь Кубицека не прервется насильственной смертью. Сам же Кубицек ни на что дополнительное не претендовал. Такое поведение и такие аргументы Кубицека должны были успокоить якобы всесильного диктатора. Но в его интересах было самому проявить инициативу и как-то материально отблагодарить Кубицека. Факт тот, что Кубицек уцелел до послевоенных времен. В свое время Кубицек, очевидно, также проявил лояльность к Гитлеру: будучи не в силах прервать свое общение с агентами полиции, возможно — с тем же самым «фабрикантом», Кубицек, однако, предупредил Гитлера — тот и скрылся в ноябре 1908. Позднее они поддерживали контакты достаточно конспиративно: Гитлеру тоже было интересно и полезно знать, чем же интересуются его противники. Кубицек, таким образом, оказался тогда «двойным агентом»! Информация Кубицека уже должна была убедить контрразведку в правильности избранного направления, и нужно было приниматься за деньги Гитлера. Пока неясно, как же конкретно все это развивалось позднее: то ли контрразведчики сразу подставили Гитлеру своих собственных доверенных людей, то ли сам Гитлер обзавелся поначалу нейтральными доброжелателями и доверенными лицами, а уже позднее они его и сдали контрразведке по инициативе последней! Австрийская контрразведка вынужденно должна была уделять значительное внимание массовому потоку еврейских мигрантов, о котором упоминалось выше: среди этих людей должно было быть немало иностранных агентов. Еврейский национальный характер вовсе не чужд шпионажу (надеемся не быть обвиненными в антисемитской шпиономании!), евреи вынужденно или добровольно шпионили и против России, и в ее пользу, а последующая история ХХ века дала массу имен замечательных разведчиков-евреев (хотя прославившийся разведчик — это просто абсурд: лучшие разведчики обречены умирать безвестными!). Понятно, что австрийским властям нужно было держать с ними ухо востро, а евреи могли оказывать австрийской контрразведке немалую пользу. Вот пример, рассказанный Ронге, относившийся уже к военному времени: «в середине мая 1915 г. в Вене один портной совершенно случайно встретил в ресторане одного офицера, которому он незадолго до того пришивал капитанские знаки различия. Портной обратил внимание на его поведение, несвойственное офицеру»[1093] — и немедленно донес в контрразведку. Подозреваемого «задержали для выяснения личности. Задержанный попросил разрешения пойти в уборную и там застрелился. В канализационной трубе было обнаружено 14 ассигнаций по тысяче крон и бумажные рубли, а на его квартире — компрометирующие документы и удостоверения, обычные для русской разведки. /…/ Перед смертью он сознался, что родом он из Галиции /…/ и состоял на службе царской охранки».[1094] Как можно в чем-то сознаваться, уже будучи застрелившимся — мало понятно; столь же непонятен и обратный ход возможных событий: как можно застрелиться уже после сделанного признания в шпионаже? — ниже нам придется столкнуться со вполне похожей ситуацией! Разумеется, данный персонаж (был он русским шпионом или нет) был убит и ограблен сотрудниками контрразведки, а еврей портной сыграл роль наводчика. Характерный эпизод и для книги Ронге, и, несомненно, для нравов того времени! Вот это-то и должен был бы учитывать Гитлер, и этого он в должной степени не учитывал! Интереснейший эпизод, представляющийся Мазеру единым целым, излагается им, начиная с цитаты из «Майн Кампф»: «/…/ Гуляя однажды по центру города, я вдруг наткнулся на существо в длинном кафтане с черными пейсами». Кубицек, который старается подтвердить и дополнить описания друга, дает подробное описание и этого эпизода. Он рассказывает, что Гитлер, изучая в Вене «еврейский вопрос», посещал даже синагогу и однажды выступил в полиции свидетелем против задержанного еврея в кафтане и сапогах, из числа тех, что обычно торговали на улицах и площадях пуговицами, шнурками, подтяжками и другими подобными вещами. Он обвинялся в том, что занимался нищенством, и полиция якобы обнаружила в его карманах 3000 крон. Гитлер пишет, что после встречи с этим евреем [то, что речь у Гитлера шла именно об этом еврее — ничем не обоснованное утверждение Мазера!], которую многие биографы расписывают, не жалея фантазии, он с особым усердием начал изучать всю доступную антисемитскую литературу, чтобы получить максимум информации о евреях». [1095] Здесь у Мазера в ужасную кучу свалены разные эпизоды и разные евреи. Все прочие биографы также увидели во всех таких рассказах лишь одного, обобщенного еврея. Но на самом же деле все это с Гитлером происходило вовсе не абстрактно, а совершенно конкретно — и совсем не так, как представляется Мазеру и прочим. Первым в хронологической последовательности должен был быть действительно достаточно абстрактный еврей в кафтане, которого Гитлер впервые встретил на венских улицах — это очень красочно описано в «Майн Кампф», и эпизод заведомо относился к первым временам пребывания Гитлера в столице, вероятнее всего — в прежние приезды. Понятно, что Гитлер был удивлен: в Линце, напоминаем, евреи не имели права постоянно жить до второй половины XIX века; там не было старой традиционной еврейской общины и не попадались классические типы местечковых евреев и их правоверных сородичей из старинных европейских городских гетто. Второе свидетельство (никогда не подтверждавшееся самим Гитлером!) относится к его посещениям синагоги. Смысл этого явления нам понятен: там-то Гитлер и искал, и, по-видимому, находил помощь в попытке решения вопроса о том, чтобы откупиться от полиции, преследующей его в связи с его уклонением от воинской повинности. Вполне возможно, повторяем, что Гитлеру даже вполне искренне пытались помочь евреи (не бесплатно, опять же повторяем!), но затем вмешательство полиции или контрразведки пресекло такие благие намерения. Само по себе посещение синагоги, а не обращение к какому-либо знакомому или даже незнакомому еврею, проливает достаточно ясный свет на истинный смысл такого поступка: именно в синагоге можно было разыскать знакомого еврея, адрес которого, вероятно, оказался утрачен. Но такой же адрес (при точном знании имени и фамилии) можно получить и в адресном бюро. Однако в таких бюро справки не дают кому попало: там нужно как-то представиться, зарегистрироваться и обосновать оправданность запроса. А если нуждающийся в справке находится на нелегальном положении? А если и тот, адрес которого требуется узнать, тоже почему-либо скрывается от полиции? Понятно, что в подобных ситуациях синагога становится необходимой инстанцией, чтобы разыскать какого-то определенного еврея! Теперь вся цепочка событий, происшедших с Гитлером, приобретает вполне законченный смысл: контрразведчики опрашивают Кубицека, тот предупреждает Гитлера. Естественный выход для Гитлера — обратиться к знакомому еврею, который согласится помочь; это, вероятнее всего, и был его бывший сексуальный партнер, связи с которым прервались со времени прошлых приездов Гитлера в Вену. Единственный ход, минующий полицию, — разыскать нужного человека через синагогу. Затем, вероятно, Гитлер действительно получает помощь — и на целый год спасается от преследования полиции — с ноября 1908 по ноябрь 1909. Но нужен-то он был не полиции, а контрразведке, которая, не отчаявшись вследствие его исчезновения, снова его нашла. Вот тут-то евреи, помогавшие Гитлеру до этого, и переходят на противоположную сторону: контрразведка, которая в каком-то конкретном эпизоде видит больший смысл в иной цели, нежели набивание собственных карманов деньгами, становится уже неподкупной, а конфликтовать с ней — какой же обыватель себе позволит? Тем более — не вполне легальный еврей! Да еще ради нееврея! Да еще ради явного преступника и правонарушителя, как, разумеется, было объяснено, хотя и так было понятно, что уклонение от воинской службы — не самое почтенное занятие! И Гитлер оказался предан и продан: его бывшие друзья стали выполнять полученное задание замарать юнца в попытках противозаконных действий, а заодно вытянуть из него побольше денег — дабы разорить его и обеспечить лучшую покладистость с его стороны. Так или иначе, Гитлер напрасно в конечном итоге маялся надеждами на благополучный исход, терял время, терял (наверняка — безвозвратно!) деньги — и неудержимо катился к самому дну венской жизни. Вот тут-то особую роль и сыграл еще один еврей в эпизоде, завершающем приведенную серию эпизодов, уложенных Мазером в бессмысленную единую кучу: у этого еврея отобрали три тысячи крон. В этом бредовом событии (заметим, что и оно не приводится в собственных текстах самого Гитлера!) нетрудно разобраться. Можно ли поверить в наличие трех тысяч крон у нищего еврея, торгующего пуговицами? В принципе — да; автору этих строк встречались и не такие истории о богатстве некоторых профессиональных нищих. Но вот невозможно поверить в то, чтобы профессиональный нищий, находящийся при исполнении служебных обязанностей и подвергающийся риску задержания и обыска, мог носить такую сумму (в современных деньгах это приблизительно эквивалентно сотне тысяч долларов!) с собой в карманах. Анекдотически печальная судьба Шуры Балаганова должна хорошо запомниться поклонникам «Золотого теленка»! Иное дело — непрофессиональный нищий. Данный эпизод, скорее всего, относился к декабрю 1909 года, когда нищий и бездомный Гитлер уже не имел никакой возможности припрятать свои последние деньги — и был вынужден постоянно носить их с собой. В последний момент, когда он обнаружил, что подвергается полицейскому налету, он успел спрятать эти деньги где-то рядом или даже передал в руки соседу-нищему, с которым, возможно, был достаточно хорошо знаком. Тот-то его и предал, передав данную пачку полицейским и утверждая, что она принадлежит Гитлеру. Этот еврей почти наверняка и явился наводчиком в данной операции. Гитлер, уже успевший ощутить, что эти деньги потеряны для него навсегда, должен был немедленно уверять, что это деньги самого еврея. Полицейские, которые провели данный захват недостаточно чисто и аккуратно, были обязаны учинить соответствующее расследование. Поскольку мы не имеем никаких дополнительных подробностей относительно того, как и когда это происходило, то можно предположить несколько иной и гораздо более осмысленный сюжет: это-то и был момент передачи Гитлером взятки за очередное запланированное его освобождение от воинской повинности. Тогда еврей, принявший взятку для передачи ее дальше по инстанциям, тем более был и хорошим знакомым Гитлера, и заведомым сообщником полиции. Все же дальнейшие обвинения Гитлера в нарушении закона должны были строиться на показаниях этого еврея и его предполагаемых сообщников. Будучи сделаны официально и под присягой, не одним человеком, а несколькими, они давали достаточно убедительные основания для обвинения Гитлера в попытке подкупа властей. Последний же во всех вариантах должен был открещиваться от этих денег, которые он заведомо потерял безо всякой пользы для себя. На время полицейского расследования Гитлер был обязан как минимум дать подписку о невыезде, а поскольку оказался бездомным, то его и поместили в упомянутое мужское общежитие — почти что в тюрьму, в которую его пока что не нашли оснований запирать. Вот там-то, в общежитии, Гитлер и подвергся воздействию очередного (а может быть — и прежнего) «фабриканта», склонявшего его к вынужденному сотрудничеству. То лицо, впрочем, которое мы подозреваем в роли исходного «фабриканта», не должно было быть постоянным обитателем этого общежития, хотя временно там мог появиться всякий, имевший на это санкции от руководства общежитием. Вероятно, Райнхольд Ханиш также был мелким агентом полиции, уже приставленным к Гитлеру, угодившему в ночлежку — иначе трудно объяснить и его перевод в то же общежитие, где он мог продолжать контролировать поведение Гитлера. Это и объясняет ту относительную свободу, которая была предоставлена еще не окончательно сломленному Гитлеру. Возможно, Ханиш не был изначально таким агентом, но из него могли постараться сделать такового, дабы обзавестись столь удобным каналом наблюдения за Гитлером, который поначалу не должен был подозревать этого. Похоже, однако, что Гитлер и в столь безнадежной ситуации оказывал упорное сопротивление, цепляясь за все возможное. Свою собственную способность прожить предшествующие годы без посторонней материальной помощи он наверняка объяснял заемом у тетушки Иоганны, подтвержденным упоминавшейся копией расписки. Не исключено, что и тетушку в это время побеспокоили соответствующими вопросами, что, возможно, приблизило ее кончину. Но вот прижать Адольфа удалось далеко не сразу. Возможно, он сумел даже отстоять свое право остаться в деле о трех тысячах крон лишь свидетелем. Скорее, однако, это стало лишь «благородным» жестом со стороны полиции — когда уже до всего договорились. И, конечно же, в том, что Гитлер остался лишь свидетелем в этом деле, было еще и изощренное издевательство: все же понимали, что это его деньги! Гитлер сопротивлялся почти до конца июня 1910 года — только так мы можем трактовать тот факт, что лишь 26 июня положение Гитлера было легализовано официальной полицейской пропиской. Можно полагать, что ровно полгода с момента задержания было и каким-то формальным ограничением срока ведения дела, к которому по уровню и относилось данное дело об обнаруженных трех тысячах крон: полицейские были обязаны уложиться в такой срок — и уложились! Можно предполагать, что контрразведчики, доламывавшие Гитлера, постепенно вошли при этом во вкус: игра кошки с мышкой сама по себе доставляла им профессиональное удовольствие, а победа явилась уже заветным призом, вполне самоценным — независимо от того, что должно было последовать в дальнейшем — ведь на эту игру Ронге и его коллеги, заметим, затратили в сумме почти два года! Это оказалось, кроме всего прочего, и очевидным признанием колоссальных способностей юного Адольфа Гитлера — в будущем бесспорно крупнейшего тайного агента ХХ века! Понятно, что самую решающую роль в победе контрразведчиков стала продемонстрированная ими готовность пойти до конца. Концом же для Гитлера было бы вскрытие могил его предков и проведение экспертизы их останков — это вполне было доступно столь мощной организации, как армейская контрразведка. Гитлеру, в конце концов, был поставлен мат на шахматной доске жизненной игры, и для падения короля уже не требовались дальнейшие перестановки фигур на доске — в какой-то момент все стало ясно! Не вполне, однако, остается ясным, дошли ли в контрразведке до полного понимания роли молодого Гитлера во всех тех убийствах, которые мы приписываем ему. В интересах самого Гитлера было бы, чтобы до этого дело не дошло. Поэтому он обязан был сдаться заранее, не дожидаясь того, что будет совсем уже поздно. Доломанный разнообразными атаками со всех сторон и по всем направлениям, Гитлер был вынужден сдаться — и сделаться тем, чего от него хотели. А ждали его заготовленные для него немалые, по-настоящему масштабные исторические роли, которые, однако, до сих пор остаются не отображенными историей! Понятно, что все это, в конечном итоге, ввергло Гитлера в крайнее возмущение предавшими его евреями: «Что касается нравственной чистоты, да и чистоты вообще, то в применении к евреям об этом можно говорить лишь с большим трудом. Что люди эти не особенно любят мыться, это можно было видеть уже по их внешности и ощущать к сожалению часто даже с закрытыми глазами. Меня, по крайней мере, часто начинало тошнить от одного запаха этих господ в длинных кафтанах. Прибавьте к этому неопрятность костюма и малогероическую внешность. /…/ Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть одно бесстыдство какого бы то ни было сорта и прежде всего в области культурной жизни народов, в которой не был бы замешан по крайней мере один еврей? Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на еврейчика. /…/ Это чума, чума, настоящая духовная чума, хуже той черной смерти, которой когда-то пугали народ».[1096] Так и хочется посочувствовать беспомощному сироте, лишенному родителей, дедушек и бабушек, которые могли бы ему помочь, а вместо этого ему приходилось искать помощи в синагоге — среди грязных и вонючих евреев! Мазер приводит неверные, на его взгляд, мнения, высказываемые по поводу таких столкновений Гитлера с евреями: «Показательным в ряду многочисленных сомнительных свидетельств психологов и психиатров является вывод Александра Митчерлиха, который утверждает, что в период с 1912 по 1914 г. Гитлер страдал «манией преследования», которая в значительной степени определяла его решения и образ действия вплоть до самой смерти. Он предполагает, что эта «мания» стала следствием описанной Гитлером в «Майн кампф» встречи с евреем в длинном кафтане».[1097] Между тем, такое наблюдение почти совершенно точно отражает то, что происходило тогда с Гитлером. Чем отличается поведение человека, страдающего манией преследования, от поведения человека, подвергающегося вполне реальному преследованию? С точки зрения принципов поведения жертвы — ничем: различие лишь в объективных обстоятельствах, окружающих человека! Гитлер в Вене (да и потом, но это мы уже не имеем возможности подробно излагать в данной книге) подвергался самым настоящим преследованиям, а в них принимали определенное участие вполне реальные евреи в настоящих кафтанах! Гитлер притом (посмотрите вышеприведенный текст из «Майн Кампф») не настаивал на решающей роли этих евреев в тех грязных историях, относительно смысла которых он предпочел не распространяться (это очень заметно!); он был готов признать даже единичность и ограниченность ролей, игравшихся евреями наряду с кем-то еще в каких-то эпизодах этих грязных историй! Но обижен он оказался в наибольшей степени именно на евреев: кто-то другой был изначально противником, а вот евреи-то его предали — несмотря на все его доверие к ним! Мы не случайно сравнили общежитие, где поселился Гитлер, с тюрьмой — оно действительно многим ее напоминает. Начнем с того, что у этого заведения не было ничего общего со всякими ночлежками для бездомных и даже с общежитиями для слабо оплачиваемой публики — студентов, сезонных рабочих и т. д. Общежитие было довольно значительных размеров: в нем было 544 спальных места, а ограничивающим условием для пребывания было требование не превышения личных доходов 1500 кронами в год[1098] (не очень низкий, заметим, уровень!) — этим, очевидно, оправдывались какие-то социальные льготы, положенные постояльцам. Стоимость проживания в отдельной комнате (каковой пользовался и Гитлер) составляла 0,5 кроны в сутки — это в полтора раза выше того, что обычно тратил Гитлер, снимавший комнаты в частных квартирах с весны 1908 по осень 1909 года.[1099] Общежитие это, следовательно, являлось для постояльцев по материальному уровню чем-то средним между съемкой площади в частном секторе и проживанием в недорогих венских отелях, стоимость чего была несколько выше. Под стать этому была и публика, заселявшая общежитие. Она делилась на две категории: постоянно живущие (к ним с лета 1910 относился и Гитлер), каковыми были отставные одинокие офицеры не в самых высших чинах, а также одинокие гражданские пенсионеры, и временные — коммивояжеры, командировочные из провинции — военные и гражданские и т. д.[1100] «/…/ картину и весь быт общежития определяли деклассированные элементы — какие-то авантюристы, обанкротившиеся торговцы, игроки, нищие, ростовщики, отставные офицеры — словом, люмпены из всех уголков Дунайской монархии, ну и, наконец, так называемые торгаши — евреи с восточных окраин империи, пытавшиеся торговлей старьем или вразнос поправить свое материальное положение. Их объединяла общая нищета, а разъединяло жадное желание вырваться из нее, совершить прыжок наверх, чего бы это ни стоило /…/»[1101] Насчет нищеты — тут несколько преувеличено: стоимость проживания свидетельствует сама за себя. Да и нищета отставных офицеров — это нечто не совсем понятное, особенно если отставка сопровождалась положенной пенсией за выслуженные годы. Один из немногих постояльцев, ухитрившихся заметить абсолютно неприметного в те годы Гитлера, позднее вспоминал: там жили «люди с академическим образованием[1102], потерпевшие по тем или иным причинам кораблекрушение, торговые служащие, офицеры в отставке и пенсионеры».[1103] Понятно, чем была эта странная полутюрьма-полуказарма: своеобразным отстойником потенциальных кадров, подходящих для вербовки, а также местом проживания в Вене уже завербованной провинциальной агентуры, периодически появлявшейся с отчетами о работе и для получения новых заданий. Понятно, что всю эту публику старались держать в стороне от потенциально враждебных глаз; в отеле, открытом для появления всех желающих, это было невозможно, а в частных квартирах, рассредоточенных по городу, было бы также невероятно трудно обеспечивать свободу от посторонних наблюдений, да и вообще эффективно и экономно поддерживать функционирование столь децентрализованной системы. Общежитие было идеальным решением всех таких проблем. А необходимая изоляция, которая должна была отсекать отдельных постояльцев друг от друга в каких-то конкретных сюжетных ситуациях, могла достигаться тем, что в Вене было не одно, а по меньшей мере четыре таких общежития[1104] — четыре своеобразных лагеря для перемещенных лиц, признанных шпионских гнезд уже после Второй Мировой войны! Все эти наши утверждения доказываются тем простейшим соображением, что если бы такой вертеп не находился под полным контролем австрийской контрразведки, то он наверняка сделался бы заповедником для множества иностранных разведок! Совершенно естественно, что Гитлер на завершающей стадии его вербовки и был помещен в такое учреждение под присмотр всей этой массы шпионов и их руководителей нижнего уровня. Гитлер «принадлежал к небольшой группе постояльцев, приобретших уже некие льготы (ему, например, разрешалось рисовать в читальном зале), которые считали себя «интеллектуалами» и демонстративно противопоставляли себя временным постояльцам, считая их ниже себя».[1105] Это отчетливо напоминает социальную иерархию тюремных заключенных, в которой верхний слой занимается преступниками с длительным сроком, вполне имеющими право глядеть сверху вниз на мелкую сволочь, ненадолго заполняющую множество соседних камер! Среди постоянных жильцов и находились профессиональные контрразведчики, главным образом — отставные, управляющие всей этой массой будущих и настоящих шпионов. Сам же Гитлер занимал особое место даже в этом высшем аристократическом клубе: Гитлера уважали, «у него было постоянное место — его всегда держали для него свободным».[1106] Последние слова нужно понимать так, что Гитлер не каждый день занимал свое место в общежитии, а иногда отсутствовал. Действительно, ниже мы постараемся показать, что в данные годы, 1910–1913, Гитлер не оставался безвыездно в Вене, а наверняка, в частности, посещал Прагу (во избежание недоразумений напоминаем, что до завершения Первой Мировой войны Чехия целиком входила в состав Австро-Венгрии). При всем при том, несмотря на «дружеское расположение», Гитлер вел себя в общежитии так, чтобы «никому не позволить подойти к себе слишком близко… По отношению к нему не разрешалось никакой фамильярности».[1107] «Гитлер обычно сидел тихо и рисовал, но если кто-то заговаривал о политике или социальных проблемах, в Гитлере это вызывало открытое раздражение. Он менялся в лице, вскакивал и принимался возбужденно разглагольствовать. Все кончалось столь же внезапно, сколь и начиналось: махнув рукой, Гитлер замолкал и снова садился рисовать».[1108] Заметим, однако, что годы спустя никто не смог вспомнить, что же содержалось в этих кратчайших проповедях молодого Гитлера. Точно так же «трудно понять, что же все-таки читал Гитлер».[1109] Все позднейшие утверждения Гитлера, что именно в те годы сформировались его политические убеждения, выглядят неубедительно: «скорее всего /…/ почти на всем протяжении его жизни в Вене у него просто не было никакой четкой политической концепции, а были лишь самые общие /…/ чувства национальной ненависти и вражды. /…/ Позже он сам признавался, что первоначально будучи целиком поглощен честолюбивыми замыслами, связанными с искусством [если бы!], он интересовался политикой лишь «между прочим», и только «кулак Судьбы», как он картинно выразился, раскрыл ему затем глаза. И даже в вошедшем потом во все школьные хрестоматии и ставшем неотъемлемой частью легенды о Гитлере эпизоде с молодым рабочим-строителем [эпизод относился, если вообще имел место быть, к 1908–1909 годам], с которым он был на ножах, Гитлер мотивировал свой отказ вступить в профсоюз весьма показательным аргументом — он «в этих делах ничего не понимает». /…/ Впоследствии он сам говорил, что был в то время очень робким, боялся обратиться к любому человеку, который представлялся ему стоящим выше по социальной лестнице, и не рискнул бы выступить даже перед пятью слушателями»[1110] — но вот от этих-то комплексов Гитлер и избавлялся в период пребывания в мужском общежитии! Гитлер так еще врал об этом времени в «Майн Кампф»: «Пусть даже мои заработки были очень скудными, но я жил не для того, чтобы рисовать, а рисовал, чтобы обеспечить свою жизнь или, точнее говоря, чтобы позволить себе дальнейшее образование».[1111] Но где, когда, как Гитлер занимался дальнейшим образованием? Разве что пару месяцев летом 1919 года! А ведь теоретически ему ничто не мешало все эти уныло проходящие годы где-либо и чему-либо учиться! Или пребывание в этом общежитии и было дальнейшим образованием? В чем бы иначе был смысл добровольного сохранения такого образа жизни на протяжении целых трех лет — абсолютно непонятно! Но в том-то и дело, что никакой добровольности тут наверняка не было. Однако, будучи почти что заключенным, Гитлер оказывался вовсе не удобным и не приятным объектом для местного начальства, как не был он удобным и приятным учеником на финише своих также вынужденных для него заключительных школьных лет. Этим-то, по-видимому, и объяснялись его выходки с речами перед окружающими: «Руководство общежития к Гитлеру относилось плохо, считая его «вызывающе политизированным». «Бывало жарковато, — свидетельствует Ханиш, — такие порой они бросали взгляды, что бывало не по себе».»[1112] Но Гитлер, очевидно, уже пользовался льготами, позволявшими ему игнорировать эмоции ближайших окружающих; так уже приговоренный к смерти практически приобретает в настоящих тюрьмах абсолютное доминирование надо всеми — включая тюремное начальство!.. Сам же Гитлер, как показали нижеописанные события, оказался в положении осужденного, которому заменили смертную казнь или каторжный срок астрономической продолжительности на относительно кратковременное пребывание в штрафном батальоне, завершить каковое, однако, оставаясь при этом в живых, можно лишь сугубо теоретически!.. «Если не считать Ханиша, у Гитлера друзей в мужском общежитии не было».[1113] Однако одним из первых дел, которые совершил Гитлер, когда у него в определенном смысле развязались руки после июня 1910 года, стало то, что он избавился от Ханиша. Об этом рассказывается так: «В течение восьми месяцев Ханиш занимался к выгоде своей и Гитлера «распространением» его работ. /…/ Однако Гитлер, /…/ по мере того как к нему приходит успех, начинает работать с ленцой, более небрежно и поверхностно. Теперь он рисует ровно столько, чтобы пополнить свой точно рассчитанный бюджет. /…/ Ханишу в конце концов приходится искать себе новые возможности для заработка. «В это время, — пишет он, — я получил несколько заказов на гравюры, которые изготовил сам, так как Гитлер полностью запустил работу».»[1114] Далее события развивались еще хуже для Ханиша: «деловому сотрудничеству Гитлера и Ханиша летом 1910 г. приходит конец. В начале августа Гитлер подает в венский полицейский комиссариат Бригиттенау заявление на своего делового партнера, который исчез и якобы утаил от него причитающуюся ему долю выручки от продажи картины, а также похитил одну из картин. Гитлер сообщает, что Ханиш после продажи акварели (на этой картине, которую Гитлер оценил как минимум в 50 крон, было изображено здание парламента в Вене) /…/ обманул его на 19 крон, а помимо этого украл у него еще одну акварель стоимостью 9 крон. Ханишу пришлось 7 дней отсидеть в тюрьме. «Я не стал опровергать обвинений Гитлера, так как получил от покупателя картины с парламентом большой заказ, который мог бы достаться Гитлеру, если бы я указал место продажи», — утверждал Ханиш в мае 1933 г.»[1115] «Ханиш /…/ еще раз случайно встретился с Гитлером лишь в 1913 г., когда Гитлер как раз нес акварель новому покупателю»[1116] — теперь, очевидно, у Гитлера была уже подходящая одежда, чтобы самому продавать картины!.. Трагический финал этого знакомства наступил много позже — в 1938 году, после Аншлюсса Австрии: Ханиш, «по некоторым ошибочным сведениям, был якобы умерщвлен по приказу Гитлера как ненужный свидетель. На самом деле, Ханиш умер в камере предварительного заключения, куда был помещен после ареста за мошенничество (в том числе и за фальсификацию картин Гитлера).»[1117] Узреть какие-либо противоречия в приведенных сведениях, а потому объявить часть их ошибочными, может только немец: любой немец знает, что людей не положено умерщвлять в камерах предварительного заключения; следовательно, этого и не могло происходить! Все происшедшее становится полностью понятным, если Гитлер посчитал (вероятно — не сразу) Ханиша агентом, приставленным к нему для плотного наблюдения — как мы это уже предположили выше. В июне же 1910 года положение Гитлера резко изменилось: те его функции в контрразведке, о которых мы расскажем ниже, были достаточно сложной и трудоемкой деятельностью; естественным было бы и то, что Гитлер стал получать постоянный оклад или регулярные гонорары от начальства; получил он возможность и вернуться к своим финансовым запасам, если от них что-либо еще оставалось (помимо все еще закопанного в Шпитале). Ханиш же, как бывший и остающийся мелкий малоценный агент (если он таковым был) по-прежнему был заинтересован в заработках. Конфликт был неизбежен, и Гитлер, научившийся у Ханиша по меньшей мере искусству отмывать продажей художественных поделок деньги, возникающие из таинственных источников, выгнал своего друга как бездомную собаку, которой позволили пару часов обогреться в теплой прихожей!.. В этом, наверняка, был и особый жест Гитлера по отношению к их общему начальству: Гитлер демонстрировал, кто здесь главный — и начальству приходилось уступать!.. Полную же расплату (заслуженную или нет) Ханиш получил уже в 1938 году — в отличие от Кубицека он не смог сообразить, как себя следует вести в столь непростой ситуации!.. Чем занимался Гитлер, служа с июня 1910 года в австрийской контрразведке — это впервые будет рассказано уже в нижеследующей главе. Но уже очень давно известно, в каких примерно социальных сферах проистекала эта его деятельность: об этом свидетельствовала одежда Гитлера, с которой он переехал из Вены в Мюнхен в мае 1913 года — это была совсем не та одежда, в которой Гитлер поселился в мужском общежитии в конце 1909 года. Отличалась она и от той, в какой он щеголял затем в читальном зале общежития и, очевидно, в прочих его помещениях: «Гитлер, который с декабря 1909 по май 1913 г. жил в мужском общежитии, во время работы над своими картинами был всегда в поношенном костюме».[1118] Когда Гитлер «поселился в Мюнхене на квартире модного портного Поппа, тот, естественно, должен был обратить внимание на одежду квартиранта. И Поппу, и его семье бросилось в глаза, что у молодого Гитлера не было в багаже «ни одной затрепанной вещи. Его фрак, костюмы, пальто и нижнее белье были в приличном и ухоженном виде».»[1119] «По данным Йозефа Поппа-младшего и Элизабет Попп (1966-67), Гитлер с удовольствием носил безупречный фрак, который Йозеф Попп-старший иногда готовил ему на выход. С началом первой мировой войны Гитлер тщательно упаковал его и оставил в квартире Поппа».[1120] Понятно, что такая униформа могла применяться лишь во вполне специфических местах: в дорогих ресторанах, дорогих ложах Оперы, на светских приемах и т. д. Высококачественному белью тоже предполагается вполне специфическое применение! С кем конкретно проводил свое время Гитлер — это доподлинно не известно, однако и на этот счет имеются вполне определенные указания. Эгон Ханфштангль, 1920 года рождения, сын многократно цитированного Эрнста Ханфштангля, делится собственными впечатлениями: «Однажды Гитлер пришел к нам домой, чтобы выпить со мной и моей матерью чашку кофе. Когда мама поставила кофе на стол, он попросил у нее кусочек шоколада. Потом, засунув его в рот, он стал одновременно отхлебывать кофе. Эту привычку, объяснил он, он перенял у австрийских офицеров во время своих голодных лет, проведенных в Вене. Для Гитлера подобный способ пить кофе был равносилен понятию роскошного образа жизни».[1121] Все-таки интересно: о чем думают люди, которые пишут и читают такие строки?.. Зато мы теперь представляем себе, с кем вместе приходилось голодать в Вене Гитлеру, облаченному во фрак, — с австрийскими офицерами! Но только ли совместно с австрийскими офицерами? Автор не уверен, сумел бы он когда-либо догадаться, чем же занимался в те годы Гитлер, если бы не получил совершенно четкую подсказку от Мазера. Мазер, во-первых, подчеркнул, что Гитлер снялся с полицейского учета в общежитии ровно 24 мая 1913 года — и в тот же день отбыл из Вены в Мюнхен.[1122] Во-вторых Мазер, как рассказывалось в нашем Введении, указал на то, что Гитлер целенаправленно старался создать впечатление о своем отсутствии в Вене уже с лета и даже с весны 1912 года: что-то там тогда происходило явно такое, в участии в чем Гитлеру категорически не хотелось сознаваться. В-третьих, Мазер обратил внимание на следующее: «В ночь с 24 на 25 мая в Вене покончил с собой начальник Генерального штаба 8-го корпуса[1123] полковник Альфред Редль, которого вследствие его гомосексуальных наклонностей шантажировала и завербовала российская секретная служба, после чего он многие годы работал на Россию, выдавая важные военные тайны. Гитлер узнает об этом в доме своего мюнхенского хозяина квартиры Йозефа Поппа из сообщений газет. Он реагирует на это почти с радостью, так как подтверждается его убеждение, что не имеет никакого смысла служить в австрийской армии. Йозеф Попп, который в молодости работал портным в модных парижских ателье, знает французский язык и убежден, что «кое-чего повидал в мире», уже 26 мая, в тот день, когда к нему въезжает новый жилец, видит в связи с аферой Редля, что он хорошо разбирается в политических событиях и реагирует на них быстро, определенно и с самостоятельных позиций. Каждый вечер происходят политические дискуссии, которые быстро надоедают еще одному жильцу, с которым Гитлер делит комнату, и тот съезжает с квартиры».[1124] Последняя фраза, что интересно, содержит фактическую ошибку — это мы покажем позднее. Тем не менее, совпадение дат выглядело весьма симптоматично, что и заставило нас всерьез разобраться в знаменитом деле полковника Редля. 4.5. Тайна ХХ века — дело полковника Редля.Знаменитый скандал с полковником Редлем относится к затянувшему политическому противоборству России и Австро-Венгрии, в конечном итоге вылившемуся в развязывание Первой Мировой войны, потрясшей всю Европу и сделавшей историю ХХ века такой, какой она и получилась. В свою очередь, этот конфликт европейских держав произошел из стремления добиться некоей химерической цели, представляющей собою такое ничтожное значение в наши дни, что невозможно поверить, что ради достижения таких целей могли гибнуть десятки миллионов людей и радикальнейшим образом смещаться направления всей человеческой истории. Идеи Маркса — типичный пример еще одной ничтожнейшей и парадоксальной цели подобнейшего типа. Согласно идеям Маркса, основой человеческой истории являются экономические интересы людей, разделенных на социальные классы. Исходя из таких идей выдвигаются и конкретные цели, достигаемые политическим путем. Однако практически неизменно оказывалось, что, как только во главе политических течений становились сторонники Маркса, ход событий принимал формы, не только не отвечающие экономическим интересам каких-либо классов, но и вообще противоречащие всякому здравому смыслу. Тем не менее, в марксизм человечество еще не наигралось, и до сих пор повсюду любят рассуждать, что марксистские-то идеи вполне хороши, но вот только исполнение подкачало! Это разумеется, сулит возобновление новейших попыток наступания на те же грабли! Но вот в те конкретные идеи, которые сделали Россию и Австро-Венгрию непримиримыми врагами, человечество наигралось уже досыта, попутно разрушив до основания и Австро-Венгрию, и прежнюю Россию. Эти идеи, определившие основной ход событий всего ХХ века, принадлежат двум военно-морским мыслителям. Американец А. Мэхэн выпустил в 1890 году книгу «Влияние морской силы на историю», а в 1892 году — «Влияние морской силы на Французскую революцию и империю»; англичанин Ф. Коломб опубликовал в 1891 году книгу «Морская война. Ее основные принципы и опыт». Эти труды двух независимых мыслителей были сразу изучены крупнейшими политическими деятелями в различных странах — и немедленно поставлены на идейное вооружение. Смысл же их незамысловатых идей заключался в том, что для достижения мирового господства следует добиваться примерно такого же контроля над океанскими территориями, какое ведущие мировые державы стремились до тех пор осуществлять лишь над территориями суши. Напомним, что к концу XIX века все основные сухопутные массивы (кроме Антарктиды) были переделены между ведущими державами. Вот за Антарктиду так и не собрались повоевать, но все еще, возможно, впереди! Одни державы были довольные достигнутым переделом мира, другие — нет. Идеи Мехэна и Коломба указывали принципиально новое направление, по которому можно было искать пути пересмотра сложившегося передела. Острее всего это ощутили в Германии и в России. Судя по тому, как развивались события в последующие сто лет, вполне всерьез можно допустить, что Мэхен и Коломб были идеологическими диверсантами, задачей которых было увлечь основных соперников собственных держав — США и Великобритании — на заведомо гибельный путь. Ибо именно в этом и оказались результаты следования Германии и России указанным путем. В наши же дни понятно, что в контроле над морскими территориями имеется определенный смысл, но он, конечно, имеет ничтожное значение по сравнению с иными современными механизмами обеспечения мирового господства. Во главе Германии в то время стоял кайзер Вильгельм II, который как раз тогда обзавелся своими ближайшими военными советниками: сухопутным — Альфредом фон Шлиффеном, начальником Генерального штаба с 1891 года, и морским — тезкой Шлиффена Альфредом фон Тирпицем. Тирпиц был начальником штаба Балтийского флота в 1890–1892 годах, затем — начальником штаба всех морских сил Германии, в 1896–1897 годах командовал германской флотилией на Дальнем Востоке, а с 1897 года возглавил германское военно-морское министерство. Особый меморандум Верховного командования Германского флота в 1894 году гласил: «Государство, которое имеет океанские, или в равной мере мировые интересы, должно быть в состоянии защищать их и дать чувствовать свою силу за пределами территориальных вод. Мировая торговля, мировая промышленность и развитое рыболовство в открытом море, мировые связи и колонии невозможны без флота, способного к активным действиям».[1125] В результате немедленно была принята программа усиленного строительства Германского флота, способного в перспективе бросить вызов флоту Владычицы Морей — Великобритании. В 1897 году престарелый Бисмарк, доживавший в отставке, высказался одобрительно о судостроительной программе Тирпица, но предостерег: «чем меньше громких слов было бы при этом произнесено, чем меньше перспектив открыто… тем лучше было бы для нас».[1126] Тирпиц и сам прекрасно понимал это, приступая к рассмотрению своей программы в Рейхстаге: «чем меньше разговоров будет в рейхстаге, тем лучше, и тем большего мы достигнем в такой деликатной с внешнеполитической точки зрения области, как моя».[1127] Но это было не более, чем благими пожеланиями: еще в 1894 году мать Вильгельма, вдовствующая императрица Виктория, известная англоманка, писала к своей матери и тезке — английской королеве Виктории: «У Вильгельма одна мысль — иметь флот, который был бы больше и сильнее британского флота, но это поистине чистое сумасшествие и безумие, и он вскоре увидит, насколько это невозможно и ненужно».[1128] Фактом остается то, что с первых шагов судостроительная программа Германии и ее реализация находились под пристальным вниманием английских флотоводцев. Во главе России стоял тогда описанный выше дуэт — царь Александр III и его первый министр С.Ю. Витте. Царю подсказали ту же идею — и он ухватился за возможность России побороться за мировое морское господство. России же начинать нужно было не со строительства флота — у нее просто отсутствовали незамерзающие порты, через которые можно было бы беспрепятственно выводить военный флот в Мировой океан: выход из Балтийского моря перекрывался Германией и Скандинавскими странами, выход из Черного в Средиземное — Турцией, а выход из Средиземного дальше — Англией, контролировавшей Гибралтар и Суэцкий канал, выход в Тихий океан перекрывался Японией (тогда еще не было и Транссибирской железнодорожной магистрали), а единственный порт на Севере — Архангельск — замерзал на зиму. Поскольку за дело взялся Витте (наш брат — математик!), то он отыскал единственное возможное решение: построить порт на незамерзающем Кольском берегу, соединив его железнодорожной магистралью с центром России. Сразу же летом 1894 года Витте сам возглавил экспедицию для поиска места для такого порта. Мы уже писали об этом: «Экспедиция завершилась, казалось бы, полной удачей: в обследованной гавани ныне расположен Мурманск, который должен был быть соединен с Петербургом по проекту Витте двухколейной железной дорогой, к постройке которой он предлагал немедленно приступить (через двадцать лет, в 1914 году, начали постройку только одноколейной); будущий порт, по мысли Витте, должен был быть основательно электрофицирован. Можно предполагать, что при реализации такой программы там же постепенно создалась бы мощная судостроительная база, превосходящая существующую ныне, которая стала создаваться с невероятным опозданием по сравнению с планами Витте — все проблемы океанского флота России могли были быть разрешены уже в XIX столетии! Но Витте, вернувшись через Скандинавию в Россию, имел затем только одну встречу с Александром III, срок жизни которого истекал; у царя не было уже и сил ознакомиться с письменным докладом. Этот доклад был представлен Витте молодому царю в первые же дни его правления, и Николай II (если верить Витте) был готов незамедлительно санкционировать основание базы флота на Мурмане. Но Витте, не знакомый еще (как и остальные!) со стилем поведения сюзерена, порекомендовал ему (о, наивность!) не сразу принимать предложенную санкцию, дабы соблюсти приличествующий срок, подчеркивающий, что решение не просто проштемпелевано новым царем, но основательно им рассмотрено /…/. Каково же было удивление [Витте], когда через 2–3 месяца из «Правительственного Вестника» он узнал, что Николай II санкционировал устройство базы флота не на Кольском полуострове, а в Либаве! /…/ Устройство базы в Либаве — в паре десятков километров от германской границы и под носом у превосходящего немецкого флота, не имело никакого смысла в случае войны с Германией. И действительно, Либава (затем — Лиепая) была захвачена немцами в первые же дни, если не часы после начала войн — и в 1914 году, и в 1941. /…/ Еще задолго до 1914 года тогдашний военный министр А.Ф. Редигер отмечал: «Либава в военном отношении действительно является лишь тяжким бременем, так как невольно заставит главнокомандующего бояться за участь ее и стоящего в ней флота, и ослаблять армию, лишь бы поддерживать Либаву»[1129] — последнее, повторяем, все равно оказалось нереальным! В 1895 году российский океанский флот остался, таким образом, вовсе лишен баз на собственной российской территории. Поэтому становится непонятным и последующее поведение всего руководящего слоя российских моряков, включая столь модного в последние годы адмирала А.В. Колчака: как могли они настаивать на строительстве флота, не имеющего баз? И на Черном, и на Балтийском море строились корабли, по своему типу предназначенные для океанских просторов, а не для плаваний по этим почти что внутренним водоемам. В результате во время обеих мировых войн ХХ века российский флот в основном простоял в своих базах, хотя частично был уничтожен при совершенно бессмысленных операциях или вынужденной перебазировке в порты, которым еще не угрожали немецкие сухопутные войска. И царской России, и Советскому Союзу для войны против Германии вовсе не был нужен океанский флот (кроме как для охраны конвоев на Севере, но там-то его и не оказалось!). Минные заградители, тральщики, торпедные и другие боевые катера самоотверженно трудились в военные годы в прибрежных водах, поддерживая сухопутные войска, но все остальное играло роль никому не нужного металлического хлама, на постройку и эксплуатацию которого затрачивалась, однако, масса сил и средств — включая обучение и тренировку специалистов, гораздо более сложные, чем почти для всех сухопутных военных профессий. /…/ Последствия решения, принятого Николаем II практически сразу по восшествии на престол, предопределили и совершенно закономерный конец его царствования, ибо они имели не только военно-техническое, но и глобально стратегическое значение, подчинив всю внешнюю политику России решению утилитарных практических задач, однозначно проистекавших от единого росчерка царского пера, санкционировавшего бездарнейшие идеи его советников. Это оказалось самым важным и ответственным решением за все время его царствования и самой важной и роковой его ошибкой! /…/ Учитывая /…/, что главным противником территориальной экспансии России почти при всех вариантах оставалась Англия /…/, Россия могла бы и вовсе отказаться от строительства флота — и ориентироваться на сухопутное завоевание Индии; тогда в России, как и много позже, вовсе не оценивали значения того, что путь туда лежал через Афганистан!.. Чисто умозрительно это могло разрешить все внешнеполитические проблемы России и одновременно нанести почти смертельный удар Британской империи. И об этом подумывал сам Николай II во время Англо-бурской войны [в которую ребенком играл Адольф Гитлер]. В письме к сестре Ксении он написал: «Ты знаешь, /…/ что я не горд, но мне приятно сознание, что только в моих руках находятся средства в конец изменить ход войны в Африке. Средство это — отдать приказ по телеграфу всем Туркестанским войскам мобилизоваться и подойти к границе. Вот и все! Никакие самые сильные флоты в мире не могут помешать нам расправиться с Англией именно там, в наиболее уязвимом для нее месте»[1130]. Но это все равно могло обречь российские берега на безжалостное опустошение английским флотом — как и во время Восточной войны [1853–1856 годов]! Поэтому, так или иначе, оставалось необходимым заботиться и о дальнейшем развитии собственных морских сил. Если Николай II отказался от Мурмана, то для решения проблемы базирования океанского флота было необходимо вести войну за захват других подходящих территорий, а цели оставались две на выбор: Проливы [Босфор и Дарданеллы] или незамерзающие порты на Дальнем Востоке со свободным выходом в Тихий океан. Николаю довелось испытать оба варианта — и он проиграл обе предпринятые войны, свое царствование и жизни — свою, своей жены, своих детей и миллионов прежних приверженцев /…/. Дальнейшее течение событий прокомментировал Витте[1131] (еще до начала Первой Мировой войны): «если бы Император Николай II издал тогда указ о том, что надобно устраивать наш морской базис на Мурмане, то несомненно, он сам увлекся бы этой мыслью, которая представляла собою завет покойного его отца. Тогда, вероятно, мы не искали бы выхода в открытое море на Дальнем Востоке, не было бы этого злополучного шага — захвата Порт-Артура и затем, так как мы все спускались вниз, шли со ступеньки на ступеньку, — не дошли бы мы и до Цусимы».[1132]»[1133] Дойдя же до разгрома Российского флота при Цусиме и заключив вынужденный мир с Японией (оказавшийся не столь уж позорным — благодаря усилиям того же Витте!), пережив в результате революцию 1905–1907 годов, Николай II и его «мудрые» советники вновь обратили свои взоры на Черноморские проливы — вот тут-то непримиримым противником и оказывалась Австро-Венгрия. Сам по себе захват русскими Босфора и Дарданелл ничем теоретически не угрожал Австро-Венгрии, но это привело бы к значительному усилению влияния России в Балканских странах, которые завершали свое освобождение от турецкого владычества, но попутно дестабилизировали ситуацию и в Австро-Венгрии, на территории которой массовым образом проживали представители тех же народов: сербы, румыны и прочие. Да и хорваты, враждовавшие как с сербами, так и с венграми, были не слишком заинтересованы в сохранении Австро-Венгрии. Пока до конца XVIII века всем этим регионам и народам угрожала мусульманская Турция, то у подавляющего большинства подданных Австрийской (тогда еще, напоминаем, — Священной Римской) империи существовал мощный стимул к взаимному объединению, которое отождествлялось с самовыживанием. К концу же XIX века уже Турция оказалась на грани полного распада, и никакое мусульманство, казалось бы, никому в Европе больше ничем не угрожало — именно так и выглядела ситуация сто лет назад![1134] В Боснии, Болгарии, Сербии, Греции уже мусульмане оказывались в начале ХХ века в качестве притесняемого меньшинства. На полпути между этими ситуациями единая Австрийская империя преобразовалась в 1867 году, как упоминалось, в двуединую, признав равноправие двух основных наций — немцев (австрийцев) и венгров — и обеспечив автономию внутреннего управления этими территориями;[1135] тогда это укрепило стабильность ее внутреннего и внешнего положения. Накануне 1914 года австро-венгерский наследник престола Франц Фердинанд был сторонником аналогичной дальнейшей федерализации монархии, создав в ней третью самостоятельную часть — славянскую.[1136] С позиций нашего времени видно, насколько сложной задачей оказалось бы нарезание таких внутренних границ. Но практически до этого дело не дошло: у Франца Фердинанда имелись могущественные противники. Против его идей выступали и немцы, и венгры, не желавшие умаления своего политического господства над славянами. Вождем этого противодействия Францу Фердинанду (в условиях глубочайшей старости императора Франца-Иосифа I, умершего позднее, в 1916 году, на 87-м году жизни) был граф Конрад фон Гетцендорф, возглавлявший австрийский Генеральный штаб в 1906–1911 и в 1912–1917 годах. Конрад был против усиления внутренних автономий и за то, чтобы военным путем отразить постоянные вмешательства России и Сербии во внутренние дела двуединой монархии. Словом, Франц Фердинанд и Конрад были классическими политиками типа «голубя» и «ястреба» соответственно. Против идей наследника престола выступала и часть славян и других народов: сербы в Боснии и Воеводине стремились к объединению с сербами в Сербии; славяне на Карпатах (самые непримиримые противники Советского Союза на Украине после Второй Мировой войны) тяготели тогда к России; румыны в Трансильвании — к Румынии. Поляки мечтали о восстановлении Польши, разделенной в XVIII веке между Россией, Германией и Австрией; чехи и хорваты — о собственной автономии или даже независимости; имелись еще итальянцы, албанцы, боснийцы-мусульмане, словенцы, словаки и т. д. Все народы Австро-Венгрии ощутили возможность требовать чего-то своего — и споры между ними лишь частично разрешились к нашему времени! Россия стремилась разогревать все эти страсти, дабы ослабить сопротивление Австро-Венгрии захвату проливов русскими; Австро-Венгрия сопротивлялась захвату проливов русскими, чтобы ослабить вмешательство России во все эти страсти. Турция с ужасом взирала на будущую судьбу принадлежащих ей Проливов (но в этом отношении все тревоги оказались напрасными!), захлебываясь при этом в собственных революциях и контрреволюциях, этнических чистках и резне. Извне за всем этим внимательно наблюдали Германия, готовая поддержать Австро-Венгрию в столкновении с Россией, и Франция, готовая поддержать Россию в столкновении с Германией. Была еще и Великобритания, на нейтралитет которой рассчитывали в Германии, но которая тайно обещала поддержку Франции при столкновении с Германией. Великобритания-то и была самой заинтересованной стороной в развязывании общеевропейского конфликта: англичане жили верой в собственную химеру — сохранение собственного мирового господства. Оно было реальностью в самой середине XIX века — после поражения России в Крымской войне, но оказалось полным блефом еще через полвека: в начале ХХ столетия Англия явно проигрывала промышленное соревнование с США, Германией и быстро наступавшей Россией. Англичанам казалось, что военное столкновение Германии с Россией решит все их проблемы: и дважды в ХХ веке такое столкновение было организовано! А за океаном под знойным западным солнцем добродушно щурился жирный американский кот: все эти крысы и мыши не понимали того, кому же на самом деле идет на пользу вся их грызня — и понять это им было суждено еще очень нескоро! Не правда ли, хорошие идеи придумали Мэхэм и Коломб? Зачем и кому все это было нужно — не пора ли спросить себя хотя бы через век после всех этих тогда лишь обозначенных конфликтов, вылившихся позднее в океаны крови? Понятно, что во всей этой политической каше, по мере ее разогревания, все большую роль играли разведки всех упомянутых и неупомянутых государств: они непосредственно участвовали в разжигании или затушении всех происходивших конфликтов и усиленно готовились к предстоящему военному столкновению, стараясь выведать планы противных сторон и обеспечить предстоящие победы своей стороны на поле боя. В числе всех этих конфликтов между разведками громкое и скандальное место занимает знаменитое дело полковника Редля, действительно, как мы постараемся показать ниже, сыгравшее значительную практическую роль на начальном этапе Первой Мировой войны, а в итоге, в какой-то трудно оцениваемой степени, предопределившее и ее результаты. От Стефана Цвейга и Эгона-Эрвина Киша до знаменитого фильма Иштвана Сабо, от 1920-х годов до современности, этот сюжет был описан неоднократно, но почти ни одна деталь в этих описаниях не соответствует действительности. Изложим сначала классическую легенду, предложенную публике еще в 1913–1914 годах, многократно пересказанную и растиражированную в течение почти целого века, прошедшего с тех времен. Основные источники использованных нами сведений — воспоминания непосредственных участников данного инцидента, руководителей разведок Австро-Венгрии, Германии и России, прежде всего — упомянутая выше книга Максимилиана Ронге, вышедшая в оригинале в Вене в 1930 году, статья его начальника — заведующего австрийским разведывательным бюро Генштаба Августа Урбанского (или Урбански) фон Остромиц, опубликованная в Германии в 1931 году, и книга начальника разведывательного отдела Германского Генштаба Вальтера Николаи, изданная в оригинале в Лейпциге в 1923 году (две последних источника известны нам по пересказу в книге М. Алексеева;[1137] в последней книге приведена и основная библиография публикаций о Редле[1138]), а также несколько других публикаций, на которые мы даем ссылки. Два из трех австро-германских разведчиков, опубликовавших воспоминания, несомненно читали вышедшие ранее упомянутые произведения коллег и вносили в них исправления, но не совсем ясно — для уточнения истины или наоборот. В начале апреля 1913 года по почте в Берлин было возвращено письмо, не полученное адресатом в Вене. Адрес в Вене был: Главпочтамт, до востребования, господину Никону Ницетасу. Какой обратный адрес в Берлине — никем никогда не указывалось и никто никогда почему-то этим не интересовался. Подозрения у работников немецкого «черного кабинета»[1139] в Берлине возникли, вероятно, потому, что письмо было изначально отправлено не из Берлина, а из пограничного с Россией немецкого городка Эйдкунена — судя, очевидно, по почтовым штемпелям; к тому же и марка была наклеена необычным образом. Так или иначе, в Берлине письмо было вскрыто. В письме обнаружились то ли русские деньги, как сообщает Николаи, то ли 6000 крон, как утверждают австрийцы. То, что письмо со столь крупной суммой не было объявлено ценным, вызвало естественные подозрения. Ознакомившись с содержанием письма, майор Николаи принял решение переслать его своему австрийскому коллеге Урбанскому, справедливо полагая, что оно связано со шпионской деятельностью на территории Австро-Венгрии: в письме была записка, удостоверяющая наличие денег в конверте, и давался адрес некого господина Ларгье в Женеве, которому следовало писать впредь, а также еще один адрес в Париже. Адреса эти уже были известны немецкой и австрийской разведкам, как «почтовые ящики» российской и французской спецслужб. ПолковникУрбанский и майор Ронге принялись за работу, однако обнаружить или вычислить Ницетаса не удалось. Письмо, прошедшее через множество рук, работавших с ним, якобы приняло непрезентабельный вид (но почему возник такой непрофессионализм?), и было заменено точной копией с вложенными деньгами, присланным по тому же адресу через Берлин. Отдел Главного Венского почтамта, где выдавались письма до востребования, был соединен электрическим звонком с полицейским участком, находившимся в соседнем здании. Когда подозрительное лицо приходило за письмом, находящимся под контролем, почтовый служащий нажимал кнопку звонка и через пару минут появлялись два сотрудника наружного наблюдения. Никто, однако, не явился и за этой оставленной копией, но в середине мая 1913 пришло еще несколько аналогичных писем (Урбанский и Ронге расходятся в их количестве); Ронге опубликовал фотокопию лишь одного из них — подтверждающего и наличие предшествующего:
После прихода этих писем подложную копию самого первого письма изъяли с Венского почтамта, и продолжали ждать. Под вечер 24 мая (по Урбанскому — и эта дата утвердилась в истории) или 25 мая (по Ронге) произошла развязка. Сотрудники контрразведки, дежурившие в полицейском участке около почтамта, получили долгожданный сигнал, означавший, что господин Ницетас пришел за письмами. Несмотря на то, что два сотрудника наружного наблюдения пришли на почтамт через три минуты, получатель письма уже успел уйти. Выбежав на улицу, они увидели удаляющееся такси. Другого такси или извозчика поблизости не оказалось, и создавалось впечатление, что господину Ницетасу удалось улизнуть от слежки. Но на этот раз контрразведчикам повезло — такси, на котором уехал получатель письма, вернулось на стоянку около почтамта. Шофер сообщил, что его клиент, хорошо и модно одетый господин, доехал до отеля «Кломзер», где и вышел. Контразведчики направились туда, а по дороге внимательно осмотрели салон автомобиля. Они обнаружили замшевый футляр от карманного ножика (по Ронге) или сам этот ножик (по Урбанскому), утерянный последним пассажиром. В отеле сыщики узнали, что в течение часа в гостиницу вернулись четверо посетителей, в том числе и полковник Редль из Праги, проживающий в люксе № 1. Тогда они вручили портье футляр от ножика (или сам ножик) и попросили его спросить у своих постояльцев — не теряли ли они его? Через некоторое время портье задал этот вопрос полковнику Редлю, выходившему из отеля. Редль подтвердил, что этот предмет принадлежит ему. Но затем он якобы вспомнил, что обронил его в такси, когда вскрывал конверты, и в его поведении проявилась заметная тревога. Этот ключевой момент в разоблачении важнейшего шпиона включен с давних пор во все буквари и хрестоматии по истории разведок. В книге генерала Н.С. Батюшина, руководившего в то время разведкой Варшавского военного округа, ведшего львиную долю работы российской военной разведки против Германии и Австро-Венгрии, но не имевшего личного отношения к полковнику Редлю, подчеркивается драматизм этой ситуации: «Невзирая на высокие требования, предъявляемые к шпиону в смысле ума, находчивости, самообладания и знания основ конспирации, все же борьба с ним в большинстве случаев оканчивается успехом, ибо мы имеем здесь дело с психологией человека и его недостатками, а не с машиной. В редкие сравнительно минуты и шпион может выйти из рамок строго настрого ему дозволенного и попасть в расставленные умелой рукой контрразведки силки. Нигде может быть не находят столь частого себе применения как в борьбе со шпионами две русские пословицы: «Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить» и «На всякую Маруху бывает проруха». Работа контрразведки всегда сопряжена с риском, а иногда и с легкой наживой денег и настолько захватывает человека, что став на этот путь, он в большинстве случаев с него не сходит. Удачи при этом лишь повышают степень риска шпиона, почему даже опытный шпион перестает слушать голоса предосторожности в погоне за новой наживой. /…/ Ускользнув в Вене от наблюдения филеров после получения им на почте денег в письме «до востребования», полковник Редль поехал на автомобиле в гостиницу. Филеры, следившие за ним, не могли его сопровождать из-за отсутствия на стоянке свободного автомобиля. Дождавшись возвращения на свою стоянку вернувшегося из гостиницы автомобиля, они обыскали его и нашли футляр от перочинного ножика. Немедленно же они помчались на автомобиле в гостиницу, где филер, знавший в лицо полковника Редля, спросил, не его ли этот футляр, который найден в автомобиле. Смутившись, полковник Редль признал его за свой, чем и положил начало следствию по обвинению его в государственной измене».[1141] Столь же драматически выглядит этот эпизод и в сборнике жутчайших шпионских историй, собранном под руководством величайшего американского руководителя разведслужб Аллена Даллеса.[1142] Но в чем же, в сущности, разоблачил себя Редль? В том, что потерял перочинный ножичек или даже футляр от него в салоне такси? Но разве это государственное преступление? Ведь в тот момент, когда он в этом сознался, он уже должен был уничтожить и записку, находившуюся в конверте, и сам конверт — это же азы техники конспирации! Тем более, что никто не стал лишать его этой возможности (как будет рассказано ниже) и после диалога о ноже или футляре! Фотокопия письма, продемонстрированная в книге Ронге, могла быть снята до того, как письмо попало к Редлю; последний же мог начисто отрицать, что держал его в руках; мог даже утверждать, что выбросил письмо, не читая, а только забрал деньги; последние же — тем более не криминал, даже если были бы переписаны номера купюр (о чем ничего не сообщается!): получение денег по невыясненной причине — это еще не преступление, и может иметь множество вполне невинных мотивов! Правда, Урбанский утверждал, дополняя все предшествующие совершенно неубедительные публикации, что формуляр на получение писем, заполненный на почте, был написан рукой Редля. Но это лишь подтверждает факт получения им письма — и ничего сверх того. Даже показания работников контрразведки, вынужденно обязанных в таком случае сознаться в незаконном предварительном просмотре содержания писем, ни в чем не уличают Редля: исходя из принципа презумции невиновности никак невозможно предъявить ему обвинение в шпионаже: вглядитесь еще раз в смысл приведенного выше письма, за который притом нес ответственность автор письма, а не Редль! Словом, операция по поимке преступника, можно констатировать, на этой стадии полностью провалилась — и никакое неловкое признание Редля относительно ножика или футляра само по себе не могло ее реанимировать. А если бы Редль не сознался в том, что ножичек или футляр — его? Что тогда? На этом вся операция по поимке шпиона и завершилась бы? Здесь впору было бы поставить точку, обратив внимание читателей на ту странную ситуацию, когда солидные люди, генералы от разведок, надувают щеки и с серьезным видом рассказывают историю, над смыслом которой должен был бы смеяться любой школьник — ему-то или его товарищам приходилось увиливать и не от таких обвинений со стороны родителей и школьных учителей! И эта глупейшая история оказалась самым знаметитым рассказом из всех всемирно известных легенд о доблестных разведчиках и контрразведчиках ХХ века! Серьезно подходя к данной ситуации, нужно признать, что весь этот инцидент, бросающий, разумеется, густую тень подозрений на полковника Редля, мог сыграть практически важнейшую роль — дать толчок к дальнейшему расследованию, как о том и писал Батюшин. Но в том-то и дело, что никакого дальнейшего расследования не производилось, а немедленно были приняты вполне окончательные и исчерпывающие меры: за потерянный ножик или футляр от ножика полковник Редль был признан достойным приговора к казни, которую в ближайшую ночь якобы произвел он сам, покончив самоубийством. Полковник Альфред Редль был настоящим высококлассным профессионалом разведки и контрразведки. Даже по воинскому званию он находился на высшем уровне или превосходил тогда остальных военных разведчиков в Германии, Австро-Венгрии и в других европейских державах. Альфред Редль родился в австрийском Лемберге (ныне — украинский Львов) в 1864 году в семье аудитора гарнизонного суда. Выбрав для себя военную карьеру, он в 15 лет поступил в кадетский корпус, а потом в офицерское училище, которое закончил блестяще. Превосходное знание им иностранных языков привлекло к молодому лейтенанту внимание кадровиков Генерального штаба австро-венгерской армии, и Редль вместо службы в провинциальных частях был зачислен в штат этого высшего военного органа страны. Попав в столь престижное место, Редль делал все возможное, чтобы на него обратили внимание. И это ему удалось, несмотря на царившие в австрийской армии кастовые предрассудки, когда в продвижении по службе отдавали предпочтение исключительно дворянам. В 1900 году Редль, уже в чине капитана, был командирован в Россию для изучения русского языка и ознакомления с обстановкой в этой стране, считавшейся одним из вероятных противников. Несколько месяцев Редль проходил стажировку в военном училище в Казани, ведя в свободное время беззаботный образ жизни и посещая многочисленные вечеринки. Само собой разумеется, что все это время за ним велось негласное наблюдение агентами русской контрразведки с целью изучения его сильных и слабых сторон, увлечений и особенностей характера. Похоже, что его русские коллеги не сильно преуспели в этом деле. Опубликованы то ли различные, то ли усеченные вариации одного и того же отзыва о Редле российского военного атташе (по тогдашней терминологии — военного агента) в Вене полковника М.К. Марченко, составленного то ли в октябре 1907, то ли 9 июля 1909 года — разница между ними непринципиальна: «Среднего роста, седоватый блондин, с седоватыми короткими усами, несколько выдавшимися скулами, улыбающимися вкрадчивыми глазами, вся наружность слащавая. Речь гладкая, мягкая, угодливая, движения расчетливые, медленные. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив. Циник. Женолюбив… Глубоко презирает славян»;[1143] «Среднего роста, седоватый блондин, с седоватыми короткими усами, несколько выдающимися скулами, улыбающимися вкрадчивыми глазами. Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, работоспособный. Склад ума мелочный. Вся наружность слащавая. Речь сладкая, мягкая, угодливая. Движения рассчитанные, медленные. Любит повеселиться».[1144] Существенно, однако, что тут нет ни слова о гомосексуальных наклонностях Редля. То ли сведения о них позднее появились у русских, то ли последние и вовсе не распознали их. Не менее существенно и то, что вроде бы и австрийские коллеги Редля тоже ничего об этом не знали: «Опытный разведчик сумел хорошо скрыть свои «ненормальные» наклонности. Урбански, в то время шеф Эвиденцбюро, подтверждает, со своей стороны, что экстравагантность Редля была неизвестной коллегам, и его как раз считали бабником».[1145] Получается, что до 24 мая 1913 года вообще никто не знал, был ли Редль гомосексуалистом — об этом, по крайней мере, ничего не сообщается в опубликованных документах и показаниях лиц, имевших отношение к его деятельности и к нему лично. Это очень странно, потому что среди этих лиц, имевших возможность наблюдать поведение Редля весьма долго и достаточно с близкой дистанции, должно было бы возникнуть вполне определенное подозрение, подобное такому, которое сразу возникло, напоминаем, у юного Адольфа Гитлера, лишь пару часов пообщавшегося с совершенно незнакомым человеком! Да и был ли Редль вообще гомосексуалистом? Ведь все сведения о гомосексуализме Редля, известные всему свету (подобно, например, сведениям о том, что Геббельсы отравили собственных детей, что также не имеет ни одного достоверного свидетельства[1146]), возникли лишь после 24 мая 1913 года, но тоже не имеют ни малейшей объективной мотивировки: известно — и все! Не могут же быть доказательством этому факту все знаменитые истории, рассказанные серьезными и выдающимися авторами, включая знаменитый фильм Иштвана Сабо, где это наглядно продемонстрировано! Это основной пункт, на котором и строится наше собственное расследование. Пока что продолжим излагать общеизвестные сведения. Карьера Редля после возвращения из России развивалась блестяще.[1147] Редль был назначен помощником начальника разведывательного бюро Генерального штаба генерала барона Гизля фон Гизлингена. Гизль назначил Редля начальником агентурного отдела бюро («Kundschaftsstelle», сокращенно «KS»), отвечавшего за контрразведывательные операции. На этом посту Редль проявил себя как отличный организатор, полностью реорганизовавший отдел контрразведки и превративший его в одну из сильнейших спецслужб австро-венгерской армии. Прежде всего это было связано с введением новой техники и новых приемов работы. Так, по его указанию комнату для приемов посетителей оборудовали только что изобретенным фонографом, что позволяло записывать на граммофонной пластинке, находящейся в соседней комнате, каждое слово приглашенного для беседы человека. Помимо этого в комнате установили две скрытые фотокамеры, с помощью которых посетителя тайно фотографировали. Иногда во время беседы с посетителем вдруг звонил телефон. Но это был ложный звонок — дело в том, что дежурный офицер сам «вызывал» себя к телефону, нажимая ногой расположенную под столом кнопку электрического звонка. «Говоря» по телефону, офицер жестом указывал гостю на портсигар, лежащий на столе, приглашая взять сигарету. Крышка портсигара обрабатывалась специальным составом, с помощью которого отпечатки пальцев курильщика сохранялись. Если же гость не курил, офицер по телефону «вызывал» себя из комнаты, забирая с собой со стола портфель. Под ним находилась папка с грифом «Секретно, не подлежит оглашению». И редко кто из посетителей мог отказать себе в удовольствии заглянуть в папку с подобной надписью. Папка также была соответствующим образом обработана для сохранения отпечатков пальцев. Если же и эта хитрость не удавалась, то применялся другой прием, и так до тех пор, пока не достигался успех. Редлю, кроме того, принадлежала разработка новой методики ведения допроса; в чем она заключалась — не сообщается, но утверждается, что она позволяла достигнуть желаемого результата без применения физических мер воздействия. Помимо прочего, по его указанию контрразведка стала вести досье на каждого жителя Вены, который хоть раз посещал основные тогда центры шпионажа, такие как Цюрих, Стокгольм, Брюссель. С подачи Редля в 1908 году был создан так называемый «черный кабинет», здесь производилась перлюстрация почтовых отправлений. При этом особое внимание уделялось письмам, поступавшим из приграничных районов Голландии, Франции, Бельгии и России, а также посланным «До востребования». О том, что истинной целью перлюстрации являлась контрразведка, знали только три человека — Ронге, начальник разведывательного бюро и начальник «черного кабинета». Всем остальным говорилось, что столь строгая цензура введена для борьбы с контрабандой. «Но главная заслуга Редля состояла в том, что он добывал уникальные секретные документы русской армии».[1148] Эти успехи были настолько впечатляющими, что начальник Редля, генерал Гизль фон Гизлинген, назначенный командиром 8-го пражского корпуса, забрал Редля, к тому времени уже полковника, с собой в качестве начальника штаба. Отбывая к новому месту службы (это произошло не известно в точности когда в период от 1909 по 1912 год — опубликованные данные расходятся), Редль оставил своему преемнику, капитану Максимилиану Ронге написанный от руки в единственном экземпляре документ под названием «Советы по раскрытию шпионажа». Он представлял собой небольшую 40-страничную переплетенную книжечку, где Редль подводил итоги своей работы на посту начальника отдела «KS» и давал некоторые практические советы. Капитан Ронге и новый начальник разведывательного бюро австрийского Генерального штаба Август Урбанский фон Остромиц в полной мере воспользовались советами Редля. Урбанский и Ронге, развязавшие охоту на Редля, были, таким образом, его ближайшими соратниками и учениками. После инцидента с ножичком или с футляром от него события развивались так: «Подозрения Редля усилились после того, как он заметил за собой слежку. Пытаясь оторваться, он достал из кармана какие-то бумажки и, мелко разорвав, выбросил на улицу. Но и это не помогло. Несмотря на поздний вечер, одному из сыщиков удалось собрать обрывки и передать их Ронге с сообщением, что таинственным господином Ницетасом оказался полковник Альфред Редль. Сличение почерка на разорванных бумажках, оказавшихся квитанциями о посылке денег и квитанциями на отправку заказных зарубежных писем в Брюссель, Лозанну и Варшаву по адресам, известным контрразведке как штаб-квартиры иностранных разведслужб, с почерком на бланке, в обязательном порядке заполняемом на почтамте при получении заказной корреспонденции, и почерком документа «Советы по раскрытию шпионажа», составленным Редлем, установило, что все они написаны одним и тем же лицом. Таким образом Ронге к своему ужасу узнал, что его предшественник полковник Редль оказался шпионом. Об этом неприятном открытии Ронге немедленно сообщил своему начальнику Урбанскому, который в свою очередь поставил об этом в известность начальника Генерального штаба генерала Конрада фон Гегцендорфа».[1149] Ронге пишет: «Нужно было еще получить согласие коменданта города на арест, но дело не терпело отлагательства».[1150] Редль, между тем, обедал в ресторане «Ридхоф» со своим лучшим другом — главным прокурором генеральной прокуратуры верховного кассационного суда доктором Виктором Поллаком. «Ему Редль рассказал в ресторане о своей половой извращенности, говорил еще о каком-то тяжелом преступлении, но в чем оно заключалось, ничего не сказал. Редль просил Поллака помочь ему немедленно и беспрепятственно выехать в Прагу или, в крайнем случае, поместить его в санаторий. Поллак позвонил н[ачальни]ку политической полиции. Последний ответил, что до утра он ничего сделать не может».[1151] Урбанский доложил это дело Конраду, который в это время обедал в ресторане «Гранд отеля».[1152] Ронге продолжает: Конрад «предложил сейчас же разыскать Редля и допросить его и согласился с предложением — дать возможность преступнику немедленно покончить с собой»[1153] — это, согласитесь, страннейшее решение при обнаружении чрезвычайно опасного шпиона, характер деятельности которого еще совершенно не выяснен. Виновен он был, повторяем, всего лишь в потере ножика или футляра от него — пока что ни в чем ином! Была составлена комиссия из четырех офицеров (включая Урбанского и Ронге) для немедленного исполнения приказа начальника Генерального штаба. Ронге продолжает: «Около полуночи Редль вернулся в давно окруженную со всех сторон гостиницу «Клоземер». Когда мы вошли в его комнату, он был уже раздет и пытался повеситься. Редль был совсем разбит, но согласился дать показания лишь одному мне».[1154] «Урбанский утверждает, что Редль отказался от каких бы то ни было показаний и на вопрос комиссии о размерах его измены и о продолжительности таковой, ответил, что все доказательства они найдут в его служебной квартире в Праге»[1155] — запомним эти слова! Ронге продолжает: «Он рассказал, что в течение 1910–1911 гг. широко обслуживал некоторые иностранные государства. В последнее время ему приходилось ограничиться лишь материалом, доступным пражскому корпусному командованию. Самым тяжелым его преступлением была выдача плана нашего развертывания против России в том виде, в каком он существовал в упомянутые годы и какой в общих чертах оставался еще в силе. Но об этом он мне ничего не сказал [???]. Соучастников у него не было, ибо он имел достаточный опыт в этой области и знал, что соучастники обычно ведут к гибели. Наконец, он попросил дать ему револьвер».[1156] «Урбанский говорит, что лишь на предложение одного из членов комиссии: «Вы можете, г[осподи]н Редль, просить о предоставлении Вам огнестрельного оружия», Редль, заикаясь, сказал: «Я покорнейше прошу о предоставлении мне револьвера».»[1157] Ронге: «Когда утром члены комиссии, охранявшие после выхода от Редля улицы, прилегающие к гостинице, заглянули к нему, то увидели, что предатель уже мертв. Возник вопрос: нужно ли скрывать истинные причины этого убийства и выставить в виде единственной причины гомосексуальность, которая также выплыла наружу?»[1158] — вот только когда она, оказывается, выплыла: когда Редль был уже мертв! Далее: «При осмотре номера на столе нашли два письма: одно на имя брата Редля, а второе барону Гизлю фон Гизленгену, начальнику Редля в Праге. Там же лежала посмертная записка: «Легкомыслие и страсти погубили меня. Молитесь за меня. За свои грехи я расплачиваюсь жизнью. Альфред. 1 час 15 м. Сейчас я умру. Пожалуйста, не делайте вскрытия моего тела. Молитесь за меня». После того как начальнику Генерального штаба доложили о самоубийстве полковника Редля, он распорядился отправить в Прагу комиссию, чтобы обследовать его квартиру и установить размеры нанесенного им ущерба».[1159] Заявление Конрада фон Хётцендорфа, «высказанное им в краткой докладной записке в военную канцелярию императора, написанной 26 мая 1913 года: «В соответствии со служебным регламентом, часть первая, сообщаю вам, что проведенное непосредственно после смерти полковника Альфреда Редля, начальника штаба VIII корпуса расследование, показало с полной достоверностью следующие причины его самоубийства: 1) гомосексуальные связи, которые привели к финансовым затруднениям и 2) продал агентам иностранной державы служебные документы секретного характера» (Документы Военного архива Вены). Самое вероятное и простое объяснение мотивов: Редлю нужно было много денег, и русские их ему предложили».[1160] Далее: «расследование в Праге взял на себя полковник Урбанский. Он вернулся из Праги с обширным материалом, заполнившим всю мою комнату».[1161] 26 мая 1913 года «все газеты, выходившие в Австро-Венгерской империи, поместили на своих страницах сообщение Венского телеграфного агентства, извещающее о неожиданном самоубийстве полковника Альфреда Редля, начальника штаба 8-го корпуса австро-венгерской армии. «Высокоталантливый офицер, — говорилось в сообщении, — которому предстояла блестящая карьера, находясь в Вене при исполнении служебных обязанностей, в припадке сумасшествия покончил с собой». Далее сообщалось о предстоящих торжественных похоронах Редля, павшего жертвой нервного истощения, вызванного продолжительной бессонницей. Но уже на следующий день в пражской газете «Прага тагеблатт» появилась заметка следующего содержания: «Одно высокопоставленное лицо просит нас опровергнуть слухи, распространяемые преимущественно в военных кругах, относительно начальника штаба пражского корпуса полковника Редля, который, как уже сообщалось, покончил жизнь самоубийством в Вене в воскресенье утром. Согласно этим слухам, полковник будто бы обвиняется в том, что передавал одному государству, а именно России, военные секреты. На самом же деле комиссия высших офицеров, приехавшая в Прагу для того, чтобы произвести обыск в доме покойного полковника, преследовала совсем другую цель». В условиях строжайшей цензуры, действовавшей тогда в Австро-Венгрии, для редактора «Прага тагеблатт» это был единственный способ сообщить своим читателям о том, что полковник Редль на самом деле застрелился после того, как его разоблачили как русского агента. До публикации в пражской газете о предательстве полковника Редля знали всего 10 высших австрийских офицеров. Даже император Франц Иосиф не был поставлен в известность.[1162] Но после 27 мая эта тайна стала известна всему миру».[1163] Что же произошло в Праге? Оказалось, вот что: «для вскрытия сейфа и замков шкафов, находящихся в квартире Редля, пригласили лучшего слесаря Праги, некоего Вагнера. Он не только присутствовал при обыске, но и видел большое количество бумаг, часть которых была на русском языке. Но на беду австрийской контрразведки Вагнер оказался ведущим игроком пражской футбольной команды «Шторм 1», а из-за обыска в квартире Редля ему пришлось пропустить матч, который его команда проиграла. Когда на следующий день капитан команды, он же редактор пражской газеты «Прага тагеблатт», стал интересоваться причинами отсутствия Вагнера на игре, тот ответил, что не мог прийти ввиду чрезвычайных обстоятельств. При этом он подробно рассказал обо всем увиденном на квартире Редля, упомянув о том, что офицеры, производившие обыск, были очень сконфужены и постоянно восклицали: «Кто бы мог подумать!», «Неужели это возможно!» Редактор, сопоставив сообщение Венского телеграфного агентства о самоубийстве Редля и факты, сообщенные ему Вагнером, понял, что открыл сенсационную тайну. И, воспользовавшись эзоповским языком, оннаследующийденьпоместилвгазетезаметку-опровержение, изкоторойследовало, чтоРедльбылрусскимшпионом».[1164] Дело едва не вылилось контрразведчикам во вполне заслуженную порку, но вроде бы обошлось: «Наследник престола, эрцгерцог Франц Фердинанд, был взбешен этим делом и был совершенно не согласен с его разрешением. Однако, с одобрения монарха, дело, по-видимому, считалось законченным, и полковник Урбанский был награжден рыцарским крестом ордена Леопольда».[1165] Ронге продолжает повествование: «Теперь, когда Редль был обезврежен, многие лица стали утверждать, что они знали то или другое из его шпионской деятельности. Нам хватило бы рассказа одного из них, если бы он раньше рассказал нам о деятельности Редля. /…/ Должны были оправдываться все близкие знакомые Редля, как, например, майор фон Зигринген. Никому не приходило в голову, что денежные средства, которыми широко располагал Редль, происходили из нечистого источника. Со всех сторон слышались упреки, были запросы в парламенте, но ни один депутат не спросил, были ли предоставлены в распоряжение контрразведки достаточные средства или нет»[1166] — запомним последнюю фразу: ниже мы ее разъясним. «Результаты обследования оказались сногсшибательными. Было обнаружено большое количество документов, подтверждающих, что Редль в течение многих лет работал на русскую разведку (как впоследствии утверждалось — с 1902 г.). Услуги Редля очень хорошо оплачивались. Его квартира оказалась роскошно обставленной, в ней описали 195 верхних рубашек, 10 военных шинелей на меху, 400 лайковых перчаток, 10 пар лакированных ботинок, а в винном погребе обнаружили 160 дюжин бутылок шампанского самых высших марок. Кроме того, было установлено, что в 1910 г. он купил дорогое поместье, а за последние пять лет приобрел, по меньшей мере, четыре автомобиля и трех первоклассных рысаков».[1167] «Признание Редля касалось годов 1910 и 1911, публике, по понятным причинам, сообщили о 1912 годе, следствия указывало на 1907, и даже на 1905 год. Был проверен счет Редля в Новой Венской сберегательной кассе. «С начала 1907 года вклады Редля стали необычно быстро возрастать» и достигли 17400 крон. В ноябре 1908 года последовали еще 5000 крон, в июле 1909 — 10000, в октябре 1910–6000, в апреле 1911 — 10000, в мае 1911 — 37000, в июне 1911 — 12000 крон. Все вклады с 1905 года достигли общей суммы в 116700 крон. Редль был зажиточным человеком. Расследование показало, что с 1907 года Редль вел роскошную жизнь, имел слуг, лошадей, оказывал денежную помощь лейтенанту Штефану Хоринке[1168], в 1911 году купил два автомобиля. Эти результаты, указывающие на 1907 год, совпадают с интересными сведениями из русской литературы. Летом 1905 года в Вену прибыл новый и очень способный военный атташе России Марченко. Уже осенью 1906 года Марченко сообщал «о желаниях очень ценного человека», который готов за большие деньги поставлять важную военную информацию. Предложение, очевидно анонимное, было отвергнуто. /…/ Вполне можно предположить, хоть это и недоказуемо, что речь шла именно о Редле»[1169] — вполне возможно, согласимся мы. Но такое предположение как-то слабо подтверждает шпионскую деятельность Редля в пользу России! Можно было бы считать, что всеми установленными фактами, относящимися к финансовому положению Редля, подтвердилась, хотя бы посмертно, его предательская деятельность. Но оказывается, что как раз эти-то сведения и не являются свидетельством предательства Редля, а говорят лишь о его злоупотреблениях в пользовании не принадлежащими лично ему средствами, что, с моральной точки зрения, также не лучшим образом характеризует покойного. Дело в том, что разведка и контрразведка в те времена жили буквально на голодном пайке: недаром юному Гитлеру случалось голодать с офицерами контрразведки! Но разведчикам и контрразведчикам приходилось как-то выкручиваться! Существенные подробности, отмеченные анонимными авторами предисловия к московскому изданию книги Ронге в 1937 году (а делом Редля тогда интересовались и писали о нем даже высшие чины НКВД, например — Л.М. Заковский и С.А. Мильштейн), весьма выразительны: Ронге «жалуется, что разведывательная служба в Австро-Венгрии была до мировой войны в загоне и что ей не давали достаточного количества денежных средств. Но в то же время он говорит, что о противниках и союзниках австро-венгерская разведывательная служба знала все или почти все. /…/ Ронге не раз противоречит сам себе и впадает в противоречие с бывшим начальником австрийского генерального штаба фон Конрадом. /…/ Конрад утверждает, что разведка и контрразведка всегда находили сильную поддержку со стороны Франца Иосифа. Ронге отрицает это. Конрад приводит свой разговор в 1909 г. с австрийским военным атташе в Петербурге, майором графом Спанокки, /…/ [который] высказал мысль, что «за 50–60 тысяч рублей можно было найти человека, могущего сообщить данные о новом плане русского развертывания». На это Конрад, по его же словам, ответил, что он готов дать на это дело и 100 000 рублей, но что эта сумма является крайним пределом того, что может быть дано из разведывательного фонда генерального штаба. В случае же, если бы понадобилась большая сумма, пришлось бы просить ее у министра иностранных дел. Спрашивается, откуда генеральный штаб мог иметь такую сумму, если, по словам Ронге, он лишь с 1911 г. начал получать на разведку только 185 000 крон, т. е. 68 450 рублей в год?»[1170] Ответ на этот наивный вопрос дает генерал Батюшин, который показал, как он и его коллеги справлялись с такой вынужденной жизнью не по средствам: «Контрразведкой приходилось заниматься лишь в тех счастливых случаях, когда сама удача шла в руки. Штабы округов испытывали постоянный дефицит в средствах на эти цели. На отпускаемые деньги (сначала 3–5 тысяч рублей в год, а позже — 8-10 тысяч рублей) трудно было заполучить ценную агентуру и долговременно сотрудничать с ней, приобретать как водится за большие деньги предлагаемые зарубежными инициативниками секретные документы и шифры, регулярно бывать в командировках, в том числе и за границей. /…/ Я неоднократно предлагал моему начальству такой план введения в заблуждение наших противников, дабы сбить их окончательно с толку. Произвести военную игру в нашем большом Генеральном штабе, взяв за основание ложные стратегические исходные данные, а затем широко торговать этими документами, выдавая их за материалы нашего действительного развертывания армий в случае войны. Если торговля этими фиктивными документами будет вестись всеми заинтересованными военными округами, то в большом Генеральном штабе противника почти что невозможно будет отличить в массе приобретаемых документов подлинные от фиктивных. Этот остроумный способ применялся до Великой войны[1171] начальником разведывательного отделения штаба Виленского военного округа полковником Ефимовым, который продажей немцам фиктивных документов увеличивал почти в два раза отпускавшиеся ему на год суммы на ведение тайной разведки».[1172] Вот оно что: торговля военными секретами вовсе не обязательно оказывалась предательством, а была, с одной стороны, средством введения противника в заблуждение, а с другой — способом пополнения скудного, безо всяких кавычек, собственного бюджета, отпускаемого на деятельность разведки и контрразведки тогдашними правительствами, еще недостаточно оценивавшими роль этих спецслужб в сложном мире ХХ века. Батюшин и его коллеги вовсе не ограничивались благими пожеланиями; Батюшин, впрочем, и сам признает это, приводя в пример полковника Ефимова. При этом они облагодетельствовали австрийцев по дешевке — за сумму, вдесятеро меньшую, чем названа генералом Конрадом: «В 1908 году за 10 тысяч рублей ими [австрийцами]был куплен последний план развертывания российской армии — полный аналог измены Редля. Но план оказался не таким простым и даже коварным. Под влиянием революционных беспорядков 1905 года после проигранной войны с японцами в России были сформированы дополнительные корпуса, но не для войны с внешним противником, а для подавления внутренних волнений. Но в плане, попавшем в Вену, они обозначены не были — петербуржский, финский, московский гренадерский, несколько кавказских и сибирских корпусов. Но к началу мировой войны в России уже наступила стабильность и эти войска все-таки появились на театре военных действий. В купленном австрийцами плане не указывались также многие резервные дивизии, сформированные за счет «французских кредитов». После маневров о них просачивалась некоторая информация, но их точное количество и численность не были известны. Но «данные из считавшего аутентичным плана развертывания» надолго оказывали «внушающее влияние» на военных империи Габсбургов, «хотя многие признаки говорили о том, что они не в полной мере соответствуют действительности», как позднее подытожили сами австрийские офицеры. (Урбански, в «Шпионаже мировой войны»: «Есть предположения, что план 1908 года вообще был русской дезинформацией»)»[1173] В чисто моральном аспекте такая беззастенчивая торговля сплошь и рядом соседствовала с предательством, и это нисколько не должно было быть удивительным при нравах того времени, когда европейские государства не относились друг к другу как к смертельным идеологическим врагам. Вот как повествует тот же Батюшин об одном своем деловом партнере, осуждая его лишь за неосторожность и опрометчивость: «Я работал в течение четырех почти лет с одним очень ценным для нас шпионом, который показывал прямо-таки кинематографическую ловкость в смысле добывания секретных документов, и окончил однако он свою карьеру преданием его суду за предложение фотографических снимков с уже использованных нами секретных документов одному из союзников наших противников, которые давно уже были связаны между собой конвенцией об обмене сведениями по тайной разведке и контрразведке. Между тем я взял с него слово, что использованные фотографические пластинки будут им уничтожены, заработанные им очень значительные суммы денег будут помещены не под закладные домов в своем государстве, а в одном из наших банков. Над этой моей осторожностью и над снабжением его мной нашим заграничным паспортом на вымышленное, конечно, имя он только посмеивался, разражаясь нелестной аттестацией своих начальников-офицеров, которые, по его словам, настолько были недальновидны, что им и в голову не могла прийти чудовищная мысль о занятии им шпионством. Могу лишь сказать, что и мне в голову не могла прийти мысль, что такой опытный как он шпион мог сам себя ввести в пасть врагу».[1174] Торговля велась вовсю — и Редль, разумеется, не уступал в этом остальным: отсюда и фраза, на которую мы обратили внимание, в которой Ронге возмущался запросами о деятельности Редля и источниках его финансов, обрушившимися на него и его коллег. К сожалению, кое кто из современных авторов, вполне уяснивших, в каких масштабах происходила тогдашняя торговля секретами, смешивает разработку и кражу военных планов с чем-то вроде написания и отправки почтовой открытки: «Например, как-то раз некий российский полковник продал австрийскому военному атташе в Варшаве план наступления русских войск на Австро-Венгрию и Германию в случае войны. Документ попал прежде всего к Редлю. Он отослал настоящий план в Россию, а взамен подложил в дело фальшивый. Кроме того, «Никон Ницетас» сообщил нашей контрразведке о предателе. Когда иуда понял, что раскрыт, то немедленно застрелился».[1175] Жаль, что такая галиматья оказалась в книге, написанной в целом достаточно квалифицированно и толково. Редль, однако, явно стал мозолить глаза своим коллегам по австрийским спецслужбам размахом своих личных расходов: они-то прекрасно понимали, откуда на это берутся средства. И это его поведение зашкалило за границы даже той весьма относительной порядочности и финансовой чистоплотности, которой все-таки должны обладать профессионалы, через чьи руки проходят никем не контролируемые (поскольку поступают из казны зарубежных стран) гигантские суммы, циркулирующие в темном мире рыцарей плаща и кинжала. Редля, несомненно, подставили собственные коллеги — и не мы первые обратили внимание на это. Ронге завершает рассказ о данной эпопее таким неожиданным эпизодом: «В Праге было продано с аукциона имущество Редля, среди которого было два фотографических аппарата. При обыске квартиры Редля они не были обследованы полковником Урбанским и военным следователем Форличеком. В середине января [1914 года] пражские и венские газеты сообщили, что пластинки, найденные в этом аппарате, были проявлены учеником реального училища, в руки которого попал этот аппарат, и один из учителей реального училища представил эти пластинки командованию корпуса. Газетные заметки передавали частично неправильные сведения. Так, например, утверждали, что среди этих фотографий были снимки чрезвычайно важного приказа наследника престола пражскому командиру корпуса и начштаба. Эрцгерцог Франц Фердинанд телеграфировал военному министру, что он ожидает строгого наказания виновных. В апреле полковнику Урбанскому дали понять, что по желанию генерального инспектора всех вооруженных сил, эрцгерцога Франца Фердинанда, он не получит дальнейшего продвижения по службе».[1176] Но не получил дальнейшего продвижения по службе и сам наследник престола: когда в июне того же, 1914 года, он выехал на военные маневры в Боснию, то контрразведка не выделила ему никакой охраны[1177] — и он был убит сербскими террористами в Сараево 28 июня 1914 года. Вместе с ним погибла и надежда на сохранение мира в Европе, ради которого убитый эрцгерцог отдавал столько сил. «Не следует исключать, что когда начальнику генерального штаба Австро-венгрии Конраду, через разведывательное бюро стало известно о готовящемся покушении на эрцгерцога /…/, Конрад, видевший во Франц-Фердинанде одно из основных препятствий на пути своих экспансионистских планов, не принял соответствующих мер для предотвращения этого покушения».[1178] Нижеследующий текст основан в основном на публикации Михаила Алексеева 1993 года.[1179] Он подводит итоги изложения общепринятой версии «дела Редля», изложенной основными участниками событий. Понятно, что при внимательном рассмотрении она вовсе не выглядит убедительной: «Прежде всего это касается доказательств шпионской деятельности Редля, найденных в его пражской квартире. /…/ Урбанский пишет, что у Редля сохранились многочисленные неудачные снимки с секретных документов, свидетельствующие о его неопытности в фотографии. Кроме того, оба [Урбанский и Ронге] сообщают о том, что вещи покойного Редля были проданы с аукциона и некий ученик реального училища купил фотоаппарат, где осталась не проявленная фотопленка, на которой были засняты секретные документы. И это все. Если принять сказанное на веру, то создается впечатление, что обыск проводили дилетанты, ничего не смыслящие в порученном им деле. Иначе казус с фотопленкой невозможно объяснить. Более того, никто никогда не называл ни одного конкретного документа, обнаруженного в квартире Редля, что тоже довольно странно. Также странно, что ни Урбанский, ни Ронге не приводят фотокопию письма, пришедшего на венский почтамт на имя Ницетаса, со швейцарским адресом французского капитана Ларгье, которого действительно арестовали в Женеве по подозрению в шпионаже. Поэтому закрадывается законное подозрение — существовало ли вообще это письмо? А если оно и существовало, то непонятно, почему профессиональный контрразведчик Редль так надолго затянул получение вознаграждения, увеличивая тем самым риск быть разоблаченным? Не менее странным выглядит и то, что Редль хранил при себе квитанции на отправку за границу заказных писем и, что совсем непонятно, почему он взял их с собой в Вену. А тот факт, что он выбросил их на улице, когда за ним ведут наблюдение, а не уничтожил в другом месте, вовсе не укладывается в голове. Еще более удивляет ловкость сотрудников наружного наблюдения, умудрившихся вечером в полной темноте собрать разорванные и специально разбросанные клочки бумаги. Но что поражает больше всего, так это описание допроса Редля в отеле «Кломзер». Быстрота и поверхностность допроса поразительна. Совершенно непонятно, почему такой профессионал, как Ронге, удовлетворился ничего не значащими словами Редля о том, что он работал в одиночку, и не попытался установить важные детали: кто завербовал, когда, как передавались донесения и т. д. Также непонятны причины, по которым Редлю предложили немедленно покончить с собой. Правда, позднее, видимо, понимая, что приведенных доказательств вины Редля явно недостаточно, Ронге поведал о добровольном признании шпиона. /…/ Урбанский же, пытаясь объяснить причины, толкнувшие Редля на предательство, делает упор на его гомосексуальные наклонности. Они, став известными иностранной разведки, позволили ей завербовать полковника под угрозой разоблачения. Еще одна странность связана со слесарем Вагнером, оказавшимся близко знакомым с редактором газеты «Прага тагеблатт». Неужели в пражском отделении контрразведки не оказалось абсолютно надежного слесаря, умеющего держать язык за зубами? А даже если дело и обстояло таким образом, то ничто не мешало поступить с Вагнером так, как поступил начальник полиции Вены Гайер с лакеем Редля Сладеком. Когда последний обратил внимание начальника полиции на то, что браунинг, из которого застрелился Редль, не принадлежал его хозяину, а ночью в номер приходили четверо офицеров, Гайер провел с ним столь внушительную беседу, что на другой день репортеры не смогли выудить из Сладека ни слова. Из всего сказанного можно сделать вполне определенный вывод, что в деле полковника Редля нет серьезных улик, доказывающих его измену. И сразу возникает вопрос: был ли Редль агентом русской разведки?»[1180] Ронге, напоминаем, обвинял Редля в выдаче плана австро-венгерского развертывания против России в том виде, в каком он существовал в упомянутые годы и какой в общих чертах оставался еще в силе. Алексеев приводит иную версию появления у русских этого плана. Убедительность его рассуждений усиливает то обстоятельство, что в своей работе он использует ранее засекреченные материалы, относящиеся к внутренней документации российской военной разведки тех лет. «Эта история началась в 1903 г., когда генерального штаба капитан Самойло А.А., помощник старшего адъютанта штаба Киевского военного округа, случайно встретил в Киеве товарища детства — генерального штаба полковника Роопа В.Х., временно оставившего пост военного агента в Вене (который он занимал с 1900 г.) для прохождения цензового командования полком в Белой Церкви. Узнав, что Самойло занимается в штабе округа изучением австро-венгерской армии и ведет ее разведку, Рооп предложил передать ему «всех своих знакомых в Вене, которые могут быть очень полезными по доставке нужных сведений»[1181]. Подобный «жест» Роопа, который через несколько месяцев должен был вернуться к исполнению своих обязанностей военного агента, был продиктован тем, что его активная деятельность уже попала в поле зрения австрийской контрразведки. /…/ Сам Рооп передал Самойло далеко не всех своих «знакомых» и после возвращения в Вену успешно добывал в течение двух лет ценную разведывательную информацию, используя негласную агентуру».[1182] Странное начало истории, заметим мы сразу: а что было бы, если бы Самойло и Рооп не встретились случайно? Почему на новую связь был передан именно этот агент, а не другие? ««Рооп сомневался, что основной его знакомый (некто «Р»), — вспоминает Самойло, — …согласится повидаться со мной лично, но был уверен, что он поручит это дело надежному лицу»[1183]. 23 октября (5 ноября) 1903 г. /…/ Самойло А.А. /…/ выехал в секретную командировку в Австро-Венгрию, где пробыл до 11 (24) ноября этого же года. Все произошло так, как и предсказал Рооп — офицер австро-венгерского Генерального штаба от личного контакта отказался, все условия его сотрудничества с разведкой были оговорены при встрече с посредником. /…/ Содержание этого ценнейшего агента-источника состояло в выплате ему, разумеется через посредника, «солидных разовых вознаграждений (до 10 тясяч рублей)». Инициатива в добывании документов, содержащих разведывательную информацию, практически была в руках у этого агента. Будучи офицером Генерального штаба, он прекрасно представлял [себе] круг интересов военной разведки России, хотя до его сведения доводилось, что в первую очередь желала бы приобрести последняя. Исходя из высказанных пожеланий, своих возможностей и складывающейся вокруг него обстановки, негласный агент сам определял, что и когда — «от времени до времени» — он предложит русской разведке. В 1910–1911 годах этот агент передается на руководство ГУГШ[1184]. /…/ В 1911 году от негласного агента, которому был присвоен порядковый номер 25, каких-либо разведывательных материалов не поступало. В 1912 г. № 25 вновь напомнил о себе. В течение этого года и первых четырех месяцев следующего от него было получено 23 секретных документа. Самойло /…/ с 1910 г. являлся делопроизводителем австро-венгерского делопроизводства Отдела генерал-квартирмейстера ГУГШ /…/. [Самойло так и] не была известна ни фамилия агента, ни занимаемая им должность. В конце мая 1913 г. в Вене покончил жизнь самоубийством полковник /…/ Альфред Редль. /…/ Казалось бы, все сходилось на том, что Редль и является тем самым «неизвестным агентом» № 25. В определенной растерянности пребывали сам Самойло, тем более, что после получения вышеперечисленных документов, новых предложений больше не поступало. «Дело Редля, — докладывал он в феврале 1914 г., подводя итог деятельности агента № 25, — указывает, что этим агентом и был Редль…» «Однако это отрицает генерал Рооп, — здесь же, в этой фразе, оговаривается Самойло, — которым агент первоначально и был завербован». Итак, Рооп, единственный из русских разведчиков, знавший, кто из офицеров Генерального штаба Австро-Венгрии скрывался под № 25, отверг какую-либо причастность Редля к сотрудничеству с военной разведкой России. Кроме того, проведенный анализ показывает, что среди документов, передаваемых агентом № 25, нет ни одного материала, относящегося к деятельности 8 (пражского) корпуса, в котором с 1909 г. полковник Редль занимал должность начальника штаба, что также ставит под сомнение утверждение о его работе на русскую разведку. Перед началом Первой мировой войны Самойло предпринял усилия для прояснения ситуации. Он, по его словам, «попытался связаться по обычному адресу с Веной, получил ответ, был вызван на свидание в Берн, ездил на это свидание и даже достал последние интересовавшие нас сведения». Но вот кто был этим «комиссионером» Самойло так и не удалось выяснить. Последний отказался назвать себя, объявив, что это последнее свидание[1185]. Таким образом, информация от негласного агента в Вене была получена год спустя после смерти Редля».[1186] Алексеев приступает к выводам: «В начале 1913 г. в Вену поступили сведения о том, что Россия негласным агентурным путем получает ценную документальную информацию, касающуюся вооруженных сил Австро-Венгрии. «Утечка» подобных сведений из России могла произойти через австрийскую или германскую негласную агентуру и явиться следствием предательства в определенном, хотя и ограниченном круге лиц как в военном министерстве России, так и в штабах военных округов, имевших доступ к разрабатываемым российским Генеральным штабом документам. Среди последних были и такие, в которых делались ссылки «на подлинные австрийские документы». Таким образом, по тем или иным причинам в Вене стало известно о предательстве в собственном стане, причем на самом высоком уровне. Нельзя исключить, что эта информация дошла до наследника престола Франца-Фердинанда. В складывающейся обстановке австрийцам необходимо было срочно пресечь деятельность тайного агента, работавшего на русских. Ответственность за эту операцию была возложена на руководство разведывательной службы Австро-Венгрии — Августа Урбанского /…/ и Макса Ронге /…/. Однако скоропалительные поиски шпиона не дали желательных результатов. Оставалось либо признать свое бессилие (что означало, если не отставку, то «перевод» по службе), либо найти «запятнанного» офицера и взвалить на него обвинение в шпионаже. И такой кандидат был найден. Чем располагали австрийские разведчики? Только вскрытым фактом противоестественных наклонностей Редля. Все остальное необходимо было фальсифицировать. /…/ После создания «улик» оставалось только подтолкнуть Редля к самоубийству (или убить его?), используя психологическое давление, угрозы разоблачить «преступную страсть», не доводя дело до суда. В данном случае грань между самоубийством и убийством довольно размыта. Ибо то, что случилось с Редлем можно рассматривать как убийство, «загримированное» под самоубийство и как самоубийство, впопыхах подготовленное австрийской разведкой. /…/ Редль ушел из жизни, сохранив за собою на многие десятки лет скандальную известность «русского шпиона». Но, убрав ими же сотворенного «агента», Ронге, Урбанский и Николаи не смогли лишить Россию подлинных источников разведывательных сведений. Сохранившаяся в Вене агентура продолжала добывать информацию. Русская военная разведка одержала верх в тайной войне».[1187] Не правда ли, здорово звучит? Особенно это: Русская военная разведка одержала верх в тайной войне! Алексееву почему-то не пришел в голову вариант, что это австрийская военная разведка целенаправленно обеспечила возможность русской получать подлинные разведывательные сведения, причем дело было даже не в тех новых (за которыми Самойло ездил в Берн), а в старых — которые раньше поступили в Россию по тем же прежним каналам, вовсе не разрушенным разоблачением и гибелью Редля! А вот как Ронге оценивает вопрос о том, кто кого победил (хотя Ронге, несомненно, врет в отношении Редля): «Редль, несомненно принес вред. Однако представление, возникшее у многих, что он является могильщиком монархии, преувеличено. Самое большое предательство — выдача плана развертывания против России — не принесло русским пользы, а наоборот, ввело их в заблуждение. Нечего было и думать об изменении плана развертывания, ибо развертывание тесно связано с целым рядом факторов. Русские хорошо знали это и вполне положились на данные Редля. Но когда подошли вплотную к войне и когда выяснилось, что нечего рассчитывать на Румынию[1188], на которую прежде рассчитывали, то было обнаружено, что при сосредоточении наших войск правый фланг северной армии был слишком открыт и потому начальник генштаба решил отодвинуть сосредоточение за р. Сан и Днестр. Русские ничего об этом не знали. Им неизвестны были даже некоторые изменения, внесенные после 1911 г., как об этом впоследствии сообщил ген[ерал Ю.Н.] Данилов в своих мемуарах. Они считали, что 3-й[1189] корпус, начальником штаба которого был Редль, войдет в состав 3-й армии в Галиции, тогда как в действительности он был направлен против Сербии. Это подтверждает тот факт, что Редль не имел ни соучастников, ни последователей. Он был единственным доверенным лицом России».[1190] Итак, Россия действовала исходя из плана, добытого разведкой, только, конечно, не от полковника Редля, который не был единственным доверенным лицом России, поскольку вообще не был доверенным лицом России (в этом Алексеев, конечно, прав!), а от агента № 25! А вот австрийский начальник генштаба (тот же Конрад!) действовал, исходя из некоторого иного плана, так и оставшегося неизвестным русским, пока дело не дошло до практического столкновения сторон. Примерно о том же свидетельствует и многократно цитировавшаяся вполне современная публикация, разумеется ссылающаяся на того же Редля, выдавшего план русским: «неожиданно для противника в момент начала войны австрийские армии оказались на 100–200 км западнее ранее предполагаемых позиций. Из-за этого российскому командованию удалось в достаточной мере уяснить обстановку на фронте только к середине августа, а вначале войны — потерпеть два неприятных поражения в битвах под Красником и под Комаровом. Российские генштабисты уже после войны сделали такой анализ: «Слепо доверившись купленному у полковника Редля плану стратегического развертывания австрийской армии, императорский Генеральный штаб полностью просчитался. Обладая богатым информационным материалом о совещаниях австрийского Генштаба под руководством его начальника Конрада фон Хётцендорфа, в российском штабе считали, что располагают сведениями, в полной мере достаточными для достижения стратегического успеха». Но «основные силы австрийцев избежали удара». В конечном счете, сведения Редля «принесли больше вреда, чем пользы». (По иронии судьбы этот успех [чей?] стал известен лишь задолго после войны благодаря публикациям научных работ российских военных.)»[1191] Ну и кто же при этом выиграл? При оценке эффективности действий разведки необходимо учитывать не только то, как ловко и своевременно добыла она те или иные секреты, но и то, насколько это практически полезно было использовано затем в дипломатической борьбе или непосредственно на полях боев. Исходя из этого мы и можем выступать в роли арбитров при решении спора о победителях в давно прошедших столкновениях разведок. Первая Мировая война в принципе не могла закончиться военной победой какой-либо из сторон. Мы об этом неоднократно писали,[1192] но это так пока и не произвело (судя по откликам) никакого впечатления на читателей. Заметим, кстати, что такой исход можно расценивать и как кошмарный провал всех разведок без исключений, начисто не предусмотревших подобные перспективы развития событий. Тем не менее, существовал все-таки шанс, что война могла завершиться еще в 1914 году. В первые месяцы войны произошло много всего: немцы захватили Бельгию и значительную часть Франции, русские потерпели поражение от немцев в Восточной Пруссии, но вторглись в Карпаты. Но ничто из этого никак не повлияло на конечные итоги войны. А повлиять на них могли бы два события, если бы они произошли осенью 1914 года: одно — занятие немцами Парижа, другое — занятие русскими Будапешта и Вены. На практике, повторяем, не произошло ни того, ни другого. Если бы произошло и то, и другое, то это не дало бы решающего перевеса ни одной из сторон, но, очень вероятно, ускорило бы мирные переговоры и завершение войны — без тех политических и социальных катастроф, какие происходили с 1917–1918 годов. Если бы произошло только одно из этих событий (захват Парижа или захват Вены и Будапешта), то это могло произвести громадное политическое и психологическое впечатление — и немедленно повлиять на все последующее, также, разумеется, приблизив конец войны. Париж в контексте нашего анализа нас сейчас не интересует. А вот тот факт, что Австро-Венгрия могла быть и была в 1914 году только обороняющейся стороной (не в смысле инициативы развязывания войны, а в смысле соотношения сил с Россией), но, тем не менее, не потерпела решающего поражения — это и был в определенной степени результат происшедшего столкновения разведок. Так кто же из них победил? Понятно, что версия Алексеева нуждается в коррекции. К тому же и он исходил из кажущегося очевидным факта, что Редля легко было запутать в обвинениях потому, что он был гомосексуалистом. А вот это-то, повторяем, вовсе не факт, а если и факт, то почти никто (судя по опубликованным сведениям) не мог и не должен был этого подозревать до самого конца мая 1913 года. Откуда вообще взялся этот гомосексуалистский след в деле Редля? Мы начнем издалека рассказ о том, кто был первым по счету гомосексуалистом, возникшим в деле Альфреда Редля: с истории изгнания из Вены упоминавшегося российского военного атташе полковника М.К. Марченко. Об этом рассказывает Макс Ронге: «В ноябре 1909 г. контрразведывательная группа узнала, что один австриец продал военные документы итальянскому генштабу за 2 000 лир. Его фотография, на фоне памятника Гете в Риме, попала на мой письменный стол. Он был опрзнан как служащий артиллерийского депо Кречмар и вместе со своей любовницей был поставлен под надзор полиции, чтобы в надлежащий момент уличить его и его сообщников. Однажды он вместе с русским военным атташе полковником Марченко появился на неосвещенной аллее в саду позади венского большого рынка. Очень скоро выяснилось, что Кречмар состоял на службе не только у итальянцев и русских, но также и у французов. Моим первым намерением было отдать приказ об его аресте при ближайшем же свидании с Марченко. В этом случае последний оказался бы в неприятном положении, будучи вынужденным удостоверить свою личность, чтобы ссылкой на свою экстерриториальность избавиться от ареста. Но это намерение не было осуществлено вследствие сомнений полиции в исходе этого предприятия, а также вследствие опасения неодобрительной оценки министерства иностранных дел. Таким образом, 15 января 1910 г. вечером был произведен обыск у Кречмара и у его зятя, фейерверкера. Военная комиссия, разобрав найденный материал, установила, что Кречмар оказывал услуги по шпионажу: начиная с 1899 г. — русскому военному атташе, с 1902 г. — Франции и с 1906 г. — итальянскому генштабу, причем заработал только 51 000 крон. За большую доверчивость к нему поплатился отставкой его друг — управляющий арсеналом морской секции, его тесть — штрафом за содействие и 5 офицеров артиллерийского депо — отставками и штрафами. Весьма опечаленный в свое время инцидентами, виновниками которых были наши агенты, граф Эренталь[1193] отнесся к инциденту с Марченко очень снисходительно. Он лишь дал понять русскому поверенному в делах Свербееву, что желателен уход полковника Марченко в отпуск без возвращения его в Вену. Марченко не отнесся трагически к инциденту, прибыл даже на ближайший придворный бал, где, конечно, не был удостоен «внимания» императора Франца Иосифа. Взамен Марченко мы получили в лице полковника Занкевича столь же опасного руководителя русской агентуры».[1194] По официальным данным Марченко убыл из Вены 2 сентября 1910 года (может быть, уехал существенно раньше), а полковник Занкевич прибыл 5 октября того же года.[1195] Вот этому-то персонажу и предстояло сыграть грандиозную историческую роль, по сей день не сделавшую его знаменитым. Остановимся поэтому на основных фактах его биографии. Михаил Ипполитович Занкевич родился 17 сентября 1872 года, в 1891 году окончил Псковский кадетский корпус, а в 1899 году — Николаевскую академию Генерального штаба. С 1903 года — на военно-дипломатической работе, причем сразу — помощником военного атташе в Вене. В 1905–1910 — военный атташе в Румынии, с 1910 (как упоминалось) и до 1913 (как будет подробно рассказано) — в Австро-Венгрии. Участник Первой Мировой войны: командир 146-го пехотного полка (март 1915 — май 1916), начальник штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии (май-июль 1916), генерал-квартирмейстер Генштаба (июль 1916 — февраль 1917), начальник военной охраны Петрограда (февраль — апрель 1917) — соратник генерала Л.Г. Корнилова, бывшего тогда начальником Петроградского военного округа — в самые первые, самые шалые недели революции, вплоть до знаменитого «Апрельского кризиса» — с учатием еще не осмелевшего Ленина. Представитель русской армии во Франции (сменил генерала Н.А. Лохвицкого) и одновременно замещал военного агента (атташе) генерала А.А. Игнатьева (июль 1917 — декабрь 1918) — до самого конца Первой Мировой войны. В Белом движении: с июля 1919 (прибыл из Франции) в штабе Русской армии Колчака (генерал-квартирмейстер), начальник штаба группы Северных (1-й и 2-й) армий генерала Лохвицкого (август-октябрь 1919), начальник штаба Ставки Главнокомандующего Русской армией адмирала Колчака (ноябрь 1919 — январь 1920) — это уже самый разгром колчаковцев в Сибири. С февраля 1920 его биография странным образом раздваивается: по одной версии — попал в плен к красным, содержался в Покровском лагере ГУЛАГа, затем расстрелян;[1196] по другой версии (подтвержденной свидетельствами знакомых автору стариков) с двадцатых годов жил во Франции, похоронен в Париже не то 14 апреля, не то 14 мая 1945 года. Может быть, он не был расстрелян, а бежал от большевиков, однако в этом последнем варианте почти наверняка ценой вербовки в советскую разведку, агентом которой стал и его коллега граф Игнатьев, но подтверждений этому пока что не имеется. В любом варианте, биография — что надо! Такой она складывалась и в Вене в 1910–1913 годах. Весной 1913 года в Вене разразилась целая серия грандиозных скандалов, связанных с разведками. Первый случай, по всей вероятности, упоминался Батюшиным в приведенном выше фрагменте — без упоминания имени героя. Его называет Ронге: «Весной 1913 г. мне предложили купить секретные сведения о германской мобилизации. Я сейчас же вошел в контакт с моими германскими коллегами по службе и общими усилиями удалось открыть источник этого предательства в лице одного писаря штаба крепости Торна по фамилии Велкерлинг. Наша дешифровальная группа раскрыла шифр этого очень ловкого шпиона, и это позволило познакомиться с широким масштабом предательства Велькеринга. После переворота[1197] один офицер русской разведки[1198] подтвердил, что этот писарь был ценнейшим агентом России. Это дело осталось в тени благодаря почти одновременному раскрытию поразительного случая в нашем лагере»[1199] — Ронге имеет в виду дело полковника Редля, но здесь он кривит душой хотя бы в том, что еще раньше разразился гораздо более звучный скандал, нежели с писарем из Торна. Об этом также пишет Ронге, стараясь не объединять данный эпизод с делом Редля. Упоминаемый подполковник П.Л. Ассанович — российский военный атташе объединенно в Дании, Швеции и Норвегии с декабря 1912 (сменил упоминавшегося графа А.А. Игнатьева) по апрель 1914 года.[1200] Итак: «русский шпионаж протягивал свои щупальцы против центральных держав и из-за границы. При поддержке некоего Гампена в Копенгагене, полковник[1201] Ассанович развил энергичную деятельность из Стокгольма. Один из агентов Ассановича, русский, некий Бравура, завербовавший венгерца Велесси, впервые со времени моего пребывания в разведывательном бюро генштаба привел в движение венгерские суды. У них было мало практики, поэтому им понадобилось три недели, чтобы разыскать Бравура, несмотря на то, что им неоднократно помогал офицер разведывательной службы в Будапеште. Едва успели арестовать Бравуру, как в венгерских газетах тотчас было опубликовано все это дело со всеми подробностями, которые могли выясниться только из протоколов суда. Как слабо власти держали прессу в своих руках, выяснилось во времена кризиса[1202]. Венгерский премьер-министр не осмелился даже выступить против разглашения военной тайны, опасаясь обратных результатов».[1203] Невозможно понять из самого приведенного текста истинный смысл последних трех фраз; это возможно лишь при привлечении дополнительной информации, проливающей извне свет на какие-то обстоятельства, о которых хочет, но не может поведать сам Ронге. В связи с этим же он старается не сопрягать эти события с разгромом шпионской сети, руководимой Занкевичем, о котором рассказывает несколько отступя. На самом деле текст Ронге содержит основания для достаточно простой разгадки. Эту разгадку дает следующий фрагмент: «Один шпион Гампена, финляндец Ян Коп-кен, работавший под разными фамилиями, был арестован в Аграме[1204]. В Кроации и Славонии шпионы подлежали военному суду, причем за эти преступления полагалась смертная казнь. Приговор не вызвал никакой сенсации, однако он не был приведен в исполнение, а заменен 16 годами тюремного заключения».[1205] Понятно, что произошло: Ян Копкен, агент Ассановича и Гампена, оказался арестован в Аграме (это может случиться с любым шпионом — в этом мы согласны с Батюшиным). Ни деятельность Копкена, ни заурядный смертный приговор ему не вызвали особого интереса контрразведчиков в Вене, а зря, потому что затем ситуация вышла из-под контроля. Копкен накануне казни проявил вполне понятную инициативу (это нередко происходит с осужденными на казнь) и вступил в сделку с властями, обещая в обмен на сохранение жизни сделать сенсационные разоблачения — и кто-то из власть имущих в Аграме пошел на этот компромис, имея в виду пользу для дела и для собственной карьеры. В результате и произошел обвал: арест в Будапеште Николая Бравуры и его подельников. Вот тут-то, вероятно, контрразведка в Вене всполошилась, и даже, возможно, в течение трех недель кто-то из ее офицеров успешно препятствовал аресту Бравуры. Но это не слишком помогло! Тот же Копкен или кто-то из арестованных в Будапеште пошел на дальнейшие шаги в том же направлении — и произошел новый обвал: арест сети в Вене, руководимой самим Занкевичем, причем будапештские газеты сразу разоблачили какие-то секреты, подтвердить которые не поднялась рука у Ронге даже через 17 лет! О последующих арестах в Вене Ронге пишет так: «Долгое время наши наблюдения за русским военным атташе в Вене полк[овником] Занкевичем не давали результатов. Но потом разоблачения последовали одно за другим. Начиная с марта 1913 г., группа контрразведки генштаба, венское полицейское управление и командование военной школы следили за братьями Яндрич, из которых один, а именно Чедомил, был обер-лейтенантом и слушателем военной школы, другой же, Александр — бывший лейтенант. Одновременно возникли подозрения против лейтенанта Якоба. Наши наблюдатели установили, что в квартире окружного фельдфебеля в отставке Артура Итцкуша появляется полковник Занкевич. После третьего посещения им Итцкуша, против последнего было начато следствие. В начале апреля уже не было больше сомнений в том, что все эти нити вели к Занкевичу, сумевшему завлечь в свои сети также и отставного полицейского агента Юлиуса Петрича и железнодорожного служащего Флориана Линднера. Лица, замешанные в шпионаже, были арестованы, и мне было приказано сообщить об этом министру иностранных дел. Граф Берхтольд[1206] от изумления «превратился в соляной столб», и когда я кончил свой доклад, он долго молчал. Занкевич поступил подобно своему предшественнику. В качестве трофеев он увез с собой в Россию агентурные донесения обоих Яндрич и прочих упомянутых лиц, а также многое другое».[1207] И вот теперь то решающее признание, которое все же рискнул сделать Ронге (о втором, на которое он не решился — несколько ниже), но на которое до сих пор никто не обратил ни малейшего внимания: «В наши руки попали два его [Занкевича] помощника, Беран и Хашек, которым он предложил отправиться в Стокгольм за получением вознаграждения. Беран имел задание обследовать округ 8-го корпуса в Праге и сообщить результаты этого обследования непосредственно в Петербурге. Беран уверял, что он не виноват, и объяснял свое знакомство с полк[овником] Занкевичем развратными привычками последнего, для удовлетворения которых он искал знакомства с одним офицером, а Беран ему в этом помогал. В приговоре суда было указано, что Занкевич навряд ли искал бы для своих развратных привычек офицера из высшего командного состава».[1208] Раскройте глаза и прочтите еще раз то, что тут написано: Занкевич — гомосексуалист, и это первый по ходу дела гомосексуалист, который возникает в деле полковника Редля, на связь с которым Занкевич послал своего помощника Берана, только вот зачем и почему?.. Но ведь это же радикальнейшим образом меняет всю картину того, что же происходило в Вене и в 1913 году, и в более ранние годы! А вот и второй важнейший факт, который не решился упомянуть Макс Ронге. За него это сделал российский журналист Валерий Ярхо, опубликовавший в августе 2003 года (пора! уже пора!) в журнале «Огонек» статью о полковнике Редле и о шпионских играх в Будапеште и в Вене весной 1913 года. Мы не знаем, какими первоисточниками пользовался Ярхо (довольно неприятно, что он неправильно пишет фамилию российского военного атташе в Вене и допускает ряд других погрешностей такого же характера), но все приведенные им сведения достаточно прочно стыкуются со всей иной информацией, имеющейся об этом знаменитом деле. Ярхо, в частности, пишет: «…Первые сведения о провале русской разведывательной сети в Австро-Венгрии докатились до России в начале апреля 1913 года, когда было получено сообщение, что «русский военный агент», как тогда называлась должность военного атташе, М.И. Зенькевич спешно отбыл из Вены в Петербург. Отъезд был столь стремителен, что проходил с нарушением дипломатического протокола: не был поставлен в известность даже австрийский МИД. Бежать Зенькевича, руководителя разведывательной сети в Австро-Венгрии, побудил арест австрийской контрразведкой в Будапеште русского резидента Николая Бравуры /…/. Среди арестованных офицеров особенно выделялись хорваты братья Ядрич. Оба сделали блестящую карьеру, старший брат, полковник, служил в австрийском Генеральном штабе, младший был воспитателем кадетского корпуса в Вене, где обучались дети военной элиты. Братья передали в распоряжение агентов русского Разведывательного бюро планы новейших крепостей на австро-русской границе, укрепленных районов Львова и Кракова, всей военной инфраструктуры приграничья. Полковник Ядрич привлек к работе на русскую разведку сына своего командира, генерала Конрада фон Генцендорфа. Фон Генцендорф-младший ходатайствовал о Ядриче перед отцом, а тот поручал полковнику важные задания, которые полковник образцово выполнял, что весьма способствовало его карьерному росту и одновременно открывало доступ к самым секретным документам, которые он беззастенчиво копировал. Чины контрразведки, производившие обыск в доме младшего фон Генцендорфа, испытали шок, когда в обнаруженном тайнике помимо секретных бумаг, подготовленных для передачи, нашли и русский паспорт, выписанный на имя хозяина. Там же была найдена и приличная сумма денег: дружбу с разведкой деликатно подогревали материально, и от Ядрича фон Генцендорф-младший получил свыше 150 тысяч крон. /…/ Разоблаченных русских агентов судили военным трибуналом. Старший из братьев Ядрич получил двадцать лет крепости, младший — четыре года. Что стало с Бравурой, доподлинно неизвестно».[1209] Несмотря на все возможные погрешности в этом тексте, понятно, что примерно то же должны были публиковать будапештские газеты весной 1913 года, повергая в ужас и генерала Конрада, и всех его помощников и приближенных, настораживая и вызывая удивленное внимание недоброжелательных наблюдателей — включая Франца Фердинанда. Это было подлинной катастрофой для Конрада и всей его партии, и катастрофу эту нужно было ликвидировать самыми энергичнейшими мерами, считаясь лишь с тем, насколько они целесообразны. Теперь всю историю скандала с полковником Редлем можно пересмотреть с самого начала. Разумеется, никаким русским агентом Редль не был — об этом нет ни малейших данных. Если Занкевич и послал к нему некоего Берана (зачем — мы рассмотрим ниже, но не сразу), то последний, скорее всего, до Редля не добрался, будучи арестован. Зато Рооп, давший старт всей операции с будущим агентом № 25, почти наверняка был завербован в Вене австрийской разведкой. Не случайно он нашел подходящего лопуха — Самойло, с которым был знаком с детства, который ему поэтому доверял и который был способен без сопротивления заглотнуть ту наживку, которую ему услужливо подсовывали через Роопа. Последний, будучи членом почтенного потомственно военного семейства обрусевших немцев, наверняка залетел по молодости в какую-то неприятную историю в Вене, за что ему и пришлось расплатиться рядом предательств собственных агентов (уж не без этого!) и созданием прочного канала, по которому австрийский Генштаб мог закачивать в Россию нужную дезинформацию, что и происходило до весны 1913 года и успешно сработало в августе-сентябре 1914, но потом все равно никому никакой пользы не принесло. Роопа же австрийцы отпустили от греха подальше — его трудно было бы эксплуатировать в дальнейшем, не подвергая риску сотрудничество с Самойло, которого успешно использовали вслепую — любимая манера действий, принятая у разведчиков. Имел ли отношение к этому в 1903–1909 годах Редль — неизвестно. Если имел, то должен был работать под полным контролем собственного Генштаба — ведь дезинформация, обладающая чертами совершенно подлинной информации, чрезвычайно сложная и взаимоопасная вещь, разрабатывать которую должны генштабисты чрезвычайно высокого уровня, а брать на себя всю ответственность за нее должен сам начальник Генштаба, которым, напоминаем, с 1906 года был Конрад. Редль хорошо играл в такие игры. Но, как и указывал Батюшин, тут легко войти в азарт, обзавестись самомнением, увлечься почти даровыми деньгами, недоступными для полного контроля со стороны собственного начальства. Повадился кувшин по воду ходить… Редль, ударившийся с 1907 года в добывание богатства, стал, несомненно, постепенно терять уважение коллег и начальства и сползать на роль не самого желанного партнера для совместных действий. К тому же он изначально оставался чужаком для венских аристократов, а его карпаткое происхождение и воспитание объективно толкали его к стронникам Франца Фердинанда и его триединой монархии, автоматически отталкивая от Конрада и его единомышленников. А уж межпартийная грызня чревата большими склоками, подлостями и соглядатайством, чем даже международный шпионаж! Почитайте историю КПСС, особенно — дореволюционного периода: это же кошмар! К тому же еще и гомосексуализм — как ни скрывал его Редль, но где-то и в чем-то он проявлялся перед коллегами — те же были профессионалами! Это качество не считалось злом в мире богемы, у скучающих аристократов и при вынужденной изоляции от женского общества — в военных школах и казармах. Но он мог оказаться и поводом для странных и опасных связей — и не очень-то должен был приветствоваться в разведке. Хотя, с другой стороны: кто же будет развращать молодых мальчиков, равно как и юных девочек, которых затем нужно подсовывать под подходящие объекты для вербовки, шантажа и просто ловкого выуживания сведений? Ведь не доверять же это обучение посторонним специалистам! Так или иначе, но перевод в штаб Пражского корпуса был не только формальным продвижением по службе, но и определенной ссылкой в провинцию — по крайней мере с самого переднего края противоборства разведок. И тут, почти одновременно, начали развиваться два параллельных и почти независимых сюжета: с одной стороны, в Вене появился российский военный атташе, в какой-то момент идентифицированный как гомосексуалист (произошло ли это еще до 1905 года или только незадолго до 1913 — не так уж принципиально!), и следовало не торопясь и основательно прибирать его к рукам; с другой стороны — решительно и толково использовать другого, уже завербованного негласного агента, даже не подозревающего об этом — Самойло, которому нужно было закачать самые важные, самые полезные ложные планы, и сделать это точно вовремя: совсем незадолго до настоящей решительной войны. Вполне вероятно, что Редль находился у колыбели и одного, и другого дела, но теперь они продвигались уже без его решающего участия! Пауза в деятельности агента № 25 в 1911 году — совсем не случайна: международная обстановка была такой, что общеевропейская война, казалось бы, отодвигалась на неопределенный срок — никто из руководителей европейских держав не проявлял непреклонного желания двинуться в настоящий бой в постоянно возникающих конфликтах (столкновения из-за Марокко и другие подобные шалости!). Зато этот год чрезвычайно урожаен на заработки Редля: значит, он зарабатывал совсем на другом!.. А вот 1912 год и весна 1913 — это время Балканских войн — и все пушки в Европе были снова расчехлены! Тут-то и наступило время закачать через Самойло нужную информацию — война уже стояла у порога! Вот теперь задумаемся, а каким наилучшим образом можно было обеспечить вербовку Занкевича на его гомосексуализме — с учетом практических возможностей Урбанского, Ронге и прочих, их технических возможностей и в общем понятных психологических наклонностей? Действовать-то нужно было наверняка, не давая возможности уйти от неопровержимых разоблачений, угрожающих в случае сопротивления принуждению к измене! Понятно, что до совершенства (в пределах техники того времени) ими была доведена съемка скрытой камерой — это основной конек Редля и его учеников, которого еще не приучились бояться (ввиду новизны этого дела) все прочие, в него непосвященные. Поэтому Занкевича нужно было снимать, снимать и снимать — и можно было с этим не торопиться, подбирая целый альбом!.. Но что же именно следовало снимать по сюжету? В этом-то и состоит едва ли не основной вопрос всей нашей книги! Понятно, что нужно было суметь снять сцены откровенно сексуального характера, имеющие абсолютно недвусмысленное значение. Но это вовсе не гарантирует успеха! Что будет, если при предъявлении таких фотографий тот же Занкевич просто рассмеется в лицо? Ведь он мог потом просто в отставку подать — все же лучше, чем стать шпионом! А может быть его даже и простят, если он покается перед своим начальством: начальники — ведь тоже люди, а в гвардейских петербургских казармах гомосексуализм не был редкостью — даже среди великих князей, руководивших целыми военными отраслями! А быть может Занкевич уже и имеет таких покровителей, которые сквозь пальцы смотрят на его шалости?! Как об этом узнаешь в Вене? Нет, нужно действовать наверняка! И тут вполне оказывается полезен Редль: он еще как бы свой, а в то же время — уже не свой. Совсем своего замазывать в такую провокацию — вовсе неэтично: при разоблачении подобной роли карьеру уже ему не сделать — слишком все это грязно и неприлично. А вот не со своим можно так поступить! И тут должна была родиться простая и гениальная своей простотой неотразимая комбинация: один молодой любовник на двоих. И эту комбинацию можно развивать на фотографиях во всех направлениях и со всеми вариациями. Вот Редль с молодым человеком в постели, а вот с ним же — Занкевич; вот вполне одетый Редль на ступеньках Венской оперы с тем же молодым человеком, тоже, конечно, одетым, а вот с ним же на тех же ступеньках — уже Занкевич. А вот они все трое вместе в какой-то массовой сцене, вроде бы знакомы, а может — незнакомы; но вокруг вполне узнаваемые люди, которые могут подтвердить при необходимости: да, это мы, а этих людей знаем в лицо или даже по имени — и неоднократно видели вместе. А вот и тот же молодой человек в кабинете у какого-нибудь Ронге — докладывает непосредственному начальнику. Можно было бы сделать и фотомонтаж — все трое голые в обнимку: если попадутся две-три фальшивые карточки из тридцати, да еще и искусно изготовленные, то никакая экспертиза этого не поймает, да никто такую экспертизу и проводить не будет: сразу все ясно! Наснимать всего этого можно было видимо-невидимо, особенно если сам молодой человек — толковый, понимает, что от него требуется, и полностью в курсе общей цели операции. Время позволяло долго и упорно следовать по этому пути — и насобирать материал, который убедит любого и каждого: Занкевич не только гомосексуалист, но и шпион, поскольку состоит в долговременной интимной связи с настоящими австрийскими контрразведчиками! Вот с этим не побежишь жаловаться к собственному начальству: никакое начальство ничему уже не сможет поверить, узрев такие картинки, а просто предложит по-дружески застрелиться, не то и само застрелит!.. И вот такая блестящая задумка лопнула в одно прекрасное мгновение!.. В начале 1913 года на австрийскую контрразведку обрушились, как уже говорилось, настоящие катастрофы. Сначала, действительно очень вероятно, поспели сведения из России, что там появились австрийские оперативные планы — и немцы забили понятную тревогу. Объяснять же им, как обстоит дело, крайне нежелательно: может пропасть вся работа, если устраивать международные дискуссии о качестве дезинформации, переданной в Россию. Здесь, в Австрии, знают об этом всего два-три человека, не считая операторов, которые разрабатывали детали общего плана неведомо для чего; может быть — для военных игр, как и предлагал Батюшин! Там, в России, уже раструбили об удачной добыче военных планов. Тут, в Германии, тоже не будут так хранить чужие секреты, как свои собственные. Нужно было чем-то решительно прекратить все дискуссии: показать, например, кому-нибудь из немецкого руководства фотографии голого Занкевича и объяснить, что мы, мол, всю российскую разведку вот так же держим!.. И подействует: замолчат и на нервы действовать не будут: авторитет австрийцев будет неколебим; сами немцы будут совсем другие шумы поднимать, чтобы окончательно русских запутать! Но не дошло еще до этого дело, а уже новая беда приключилась: разоблачение юного Конрада! Это была страшная вещь, угрожающая падением всей военной партии в Австро-Венгрии — ввиду возможной позорной отставки ее вождя, а вожди на улице не валяются и на деревьях не растут. В чем бы ни был конкретно виноват юный отпрыск начальника Генштаба, но папашу он подвел невероятно! Не ради него, а ради его отца следовало делать вид, будто и сынок не дурак и не шпион, а только притворяется таковым, чтобы контрразведке помогать. А может быть, так оно и на самом деле было? Но и тут, в любом варианте, следовало иметь успехи этой контрразведки, потому что помощь явно безнадежной деятельности — это вовсе не оправдание! И успехи эти нужно было немедленно добывать! Вот тут-то и случилась совсем настоящая катастрофа: беседа с Занкевичем произошла слишком быстро и неподготовленно — и не дала нужных результатов. Занкевич на карточки посмотрел, ухмыльнулся — и укатил из Вены! Да еще и послал Берана в Прагу — то ли присмотреться к Редлю, то ли вербовать его, раскрыв ему глаза на поведение его начальства — и обещая гарантировать всю поддержку всей мощнейшей России! Хорошо, что Беран туда не доехал — по дороге арестовали! Сам же Занкевич выкинул столь же простой трюк, как Корейко, сбежавший от Остапа Бендера. Как будешь шантажировать жертву, если ее просто не догнать? Послать вдогонку начальству Занкевича всю эту пачку фотографий? Но это же расписаться в том, что вербовка сорвалась! Это даст наилучшие оправдания Занкевичу, какие только возможны в этой непростой для него ситуации. Притом такой демарш поставит крест и на дальнйших попытках его завербовать, и в чем тогда выигрыш — в сломанной судьбе одного полковника? Оставаться ждать, надеясь, что он просто сбежал (предлогов в связи с арестом Бравуры и прочих у него хватало), и не решится каяться перед начальством, а потом, позднее, опять в руки попадется, как попался тот же Корейко снова тому же Остапу Бендеру — и вынужден был отдать ему миллион! Но времени-то ожидать новой встречи с Занкевичем абсолютно не было! Оставался один выход: всю эту пачку компрометирующих фотографий обрушить на противоположный конец этой ложной преступной связи. Если по первоначальному плану русскому разведчику Занкевичу предстояло стать предателем и австрийским агентом, но неразоблаченным, чтобы этой акцией покрыть все действительные и мнимые провалы австрийской разведки, то теперь уже австрийскому разведчику Редлю предстояло стать предателем и российским агентом, но разоблаченным, чтобы этой акцией покрыть все действительные и мнимые провалы австрийской разведки. Во всей этой схеме, правда, было слабое логическое звено: скомпрометированными все-таки были во всех вариантах оба полковника — и оба должны были избегать столь высокой цены за вербовку оппонента. Именно это, по-видимому, и почувствовал вовсе не глупый Занкевич — и увидел-таки шанс в том, чтобы наладить контакты с Редлем, образовав с ним единый фронт. При таком повороте дела решающая роль отводилась уже третьему участнику операции: его свидетельские показания вносили ясность во всю эту историю и обнажали намерения сторон. Поэтому значение этого персонажа становилось просто колоссальным после смерти Редля и бегства Занкевича, разбираться с которыми высшее австрийское начальство уже не имело возможности. Контрразведчикам приходилось действовать с максимальной осторожностью. Можно было бы, казалось бы, прямо сразу представить труп застрелившегося, повесившегося или утопившегося Редля — вместе с этой пачкой фотографий — и дело было бы сразу в шляпе! Но нет: такая внезапность насторожила бы начальство: с чего бы это вдруг столь прожженному преступнику замучиться совестью и самоубиться? Следовало провести более естественное, хотя и быстрое разоблачение давнишнего сотрудника собственной разведывательной организации, да еще и отвести при этом определенную роль германским коллегам, чтобы и последние уверились, что у австрийцев все в порядке. И едва отъехал поезд, увозивший из Вены в Петербург бежавшего Занкевича, как почти сразу отправилось письмо из Вены в Берлин, не лежавшее, конечно, месяц (или сколько там тогда было положено?) на Венском почтамте неполученным, потому что никто даже и не знал, что его нужно забирать. В нем лежали русские деньги и записка со знаменитыми шпионскими адресами, чтобы уж никак на почтамте в Берлине не пропустили его без проверки. Хотя такое письмо и выдавало чрезвычайный непрофессионализм отправителя, вызывающий законное недоумение. Батюшин, например, по этому поводу написал: «Для отправки писем своим агентам я широко использовал услуги начальников шести пограничных железнодорожно-полицейских отделений — в Граево, Млаве, Александрове, Калишае, Сосновицах и Границах, которые лично или через доверенных лиц опускали мои письма в соответствующих государствах, для чего у меня имелся запас их почтовых марок. Этим же способом я отправлял притом в простых письмах из разных заграничных городов деньги своим агентам — исключительно в валюте той страны, где они проживали. Мне всегда была не по душе корреспонденция «до востребования» с денежными к тому же в нее вложениями, так как и она сама своими адресами и ее получателями невольно мозолила глаза почтовым чиновникам. Генерал Ронге в своей книге /…/ очень подробно описывает, как такой первоклассный агент австро-венгерской службы полковник Редль попался только потому, что сношения с ним велись письмами «до востребования» с денежными вложениями в русской валюте. Долго лежавшее на почте письмо дало повод не только обратить на него внимание, но даже и вскрыть его, что в связи с деньгами в русской валюте повело к установлению наблюдения за его получателем и раскрытию полковника Редля».[1210] Позднее это письмо никак не могло попасть в руки Редля: он прекрасно понял бы, что это — провокация, и отнесся бы к письму как к попавшей в руки ядовитой змее. Поэтому ему прислали совсем другие письма, сообщив ему о них по какому-то из тех каналов, через которые он получал деньги за собственную торговлю документами. Но взять Редля на почте не удалось: он проявил осторожность и быстро улизнул, предварительно наняв такси и оставив его стоять с включенным мотором. Но и это могло бы не сработать, если бы не произошла вполне очевидная вещь: сыщики, которые должны были его схватить, остолбенели, узнав своего бывшего начальника — и дали ему скрыться, хотя и проследили за ним. Это было неизбежной накладкой: нельзя же было объяснять заранее рядовым контрразведчикам, на кого именно ведется охота! Вот эпизод с ножичком или футляром может быть и случился по-настоящему, а может быть был просто придуман — он уже не имел никакого значения. Обрывки квитанций, якобы выброшенные Редлем, сфабриковать было еще проще. Редль, заметивший слежку, был очень нервен в своем разговоре с другом-прокурором — и сыграл в этом наруку своим преследователям, но ни в чем конкретном все же не сознался. Еще бы: он не был невиновен и много наворовал, но не мог знать, какие обвинения ему захотят предъявить! Допросам его наверняка не подвергали, а просто убили. Никаких признаний от него не требовалось: вот теперь преследователи получали неопровержимую возможность имитировать обнаружение у Редля пачки фотографий, которыми его якобы шантажировал Занкевич — и никакой Франц Фердинанд не имел возможности негодовать, что убили или довели до самоубийства не того человека. Именно того, кого надо, но только не нужно было это демонстрировать публике — ни к чему были скандалы с Занкевичем и его хозяевами, погубившими ранее верного и надежного австрийского разведчика. Однако контрразведке, точнее — Генштабу, требовался именно скандал. Он-то и был вполне определенным вкладом в грядущие события. Фарс со слесарем в Праге был наверняка разыгран в расчете на то, чтобы сделать историю с разоблачением общеизвестной. Это необходимо нужно было уже для успокоения русских, равно как и воскрешение агента № 25 через год после смерти Редля: русские должны были поверить, что разоблачение Редля не имеет отношения к их собственной агентуре, и вся прежняя информация ничем и никем не подпорчена. Это и дало возможность русским считать, что они добились победы и могут пользоваться ее плодами — так и шло дело вплоть до августа 1914 года. Зато теперь за них радуются Михаил Алексеев, Александр Колпакиди и иже с ними. Занкевич теперь мог не бояться этой пачки фотографий: для него она теперь была безопасна: Редль ведь был разоблаченным русским агентом, а Занкевич выглядел, естественно, — его совратителем. Неважно, что это произошло через постельные отношения, а сам Занкевич оказался очевидным гомосеком — у каждого свои недостатки! Зато вербовку Редля, хотя и не успевшего дать существенную информацию, как считали Рооп и Самойло и как не считали все остальные, нужно было считать победой русских разведчиков, в том числе — и Занкевича, а победителей в разведках не судят! Определенные проблемы создавал молодой человек — тот самый, третий на фото. Он был теперь, конечно, лишним свидетелем — и его, по законам жанра, следовало убить. Но сразу его убивать было нельзя: кто-нибудь, тот же Франц Фердинанд, мог бы потребовать его для допроса — и лучше было бы его представить для этого, а не то это вызвало бы излишние подозрения. С самого начала он, конечно, был проинстуктирован, как себя вести — и в его лояльности сомневаться не приходилось: он знал, что в разведке не шутят! Но пока Редль был еще жив, и было не известно, как же конкретно закончится все это дело, то лучше бы было этого молодого человека отправить куда-нибудь не очень далеко, и не очень близко: с одной стороны он должен был быть рядом, с другой стороны — быть недоступен для внезапного допроса, обрушивающегося на него — его нужно было успеть проинструктировать перед таким допросом или все же успеть организовать внезапный несчастный случай, если бы было сочтено слишком опасным представлять его на такой допрос по сложившейся ситуации. Итак, он должен был находиться, повторяем, где-нибудь неподалеку, лучше — за границей: для большей недоступности и изолированности, скажем — в Мюнхене, и пребывать под надежной охраной верных людей, обепечивающих невозможность его бегства по собственному произволу. По мере того, как текло время, а он никому так и не понадобился (ничего не известно о подобных дополнительных допросах!), у контрразведчиков снижалась заинтересованность и в нем, и в сохранении его жизни. Если он был достаточно умен, то должен был понимать, что едва ли ему удастся больше чем на год пережить Редля — его старшего партнера по любовным утехам, сознательно, хотя, может быть, и не добровольно, преданным его младшим партнером. У этого жалкого молодого человека не было, казалось бы, шансов прожить долгую жизнь или, тем более, войти в историю. Но он сам распорядился по-другому. Примечания:1 Эти слова Т. Манна воспроизведены на обложке книги: М. Кох-Хиллебрехт. Homo Гитлер: психограмма диктатора. Минск, 2003. 7 В. Мазер. Адольф Гитлер: легенда, миф, действительность. Изд. 2-е, Минск, 2002, с. 180. 8 Там же, с. 179. 9 Кох-Хиллебрехт ссылается на первоисточник: G. Heinson. Lexikon der Volkermorde. 1998. S. 56. 10 Везде внутри цитат мы воспроизводим написание собственных имен так, как они приведены в данном первоисточнике; поэтому множество имен в нашей книге имеет различные варианты передачи русскими буквами. 11 М. Кох-Хиллебрехт. Указ. сочин., с. 13. 12 R. Augustin. Hitler, und was davon blieb. // «Der Spiegel», 1970. Nr. 19, S. 100 f. 76 Четкое ее изложение дано, например, в книге: Ю. Мухин. Крестовый поход на Восток. «Жертвы» Второй мировой. М., 2006, с. 250–273. 77 М. Кох-Хиллебрехт. Указ. сочин., с. 197. 78 Жёлтая политика. Периодическое интернет-издание. http: //polit.yellowpress.ru/?public=3291. 79 Работа над данным текстом уже была завершена, когда в Интернете и в прессе стали появляться сведения о новой книге Н. Мейлера, например: «В Америке на прилавки книжных магазинов поступил роман Нормана Мейлера «Замок в лесу». Книга начинается с истории предков Адольфа Гитлера, рассказывает о его детстве и отрочестве, о том, как его личность формировали гомосексуальные и кровосмесительные связи в семье. Повествование ведется от лица Сатаны, который приметил будущего фюрера в его детские годы. Мейлер в течение двух лет тщательно изучал материалы о Гитлере и его семье» — «Еврейская газета», Nr. 03 (55), Marz 2007, с. 3. 80 «Еврейская газета», Nr. 02 (54), с. 19. 81 Вставки внутри цитат в таких скобках принадлежат, если особо не оговорено, автору данной книги. 82 Я. Кершоу. Гитлер. Ростов-на-Дону, 1997, с. 10, 12. 83 Мы используем второе издание этой книги на русском языке; первое вышло в 2000 году. 84 В. Мазер. Указ. сочин., с. 7. 85 Там же. 86 Там же, с. 110. 87 Там же, с. 109. 88 С июля 1933 — в штабе Гитлера, с 12 мая 1941 (после перелета Рудольфа Гесса в Великобританию) — глава партийной канцелярии, с марта 1943 — секретарь фюрера, с 1944 — имперский министр. 89 Д. Мельников, Л. Черная. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. М., 1982, http: www.boookshop.com.ua/Asp/k_view_2.asp?Pr1=1. 90 Командир полностью разгромленной дивизии, подчиненной командиру корпуса Вендлингу, используемый теперь последним для поручений. 91 Командный пункт. 92 С 1 апреля 1945 — исполняющий обязанности начальника ОКХ — генерального штаба сухопутных войск. 93 Главный адъютант Гитлера от вооруженных сил. 94 Погрешность перевода: правильно — «Дубовые листья к рыцарскому кресту». 95 В.И. Дашичев. «Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., 1967, с. 602–604. 96 Там же, с. 604–605. 97 Там же, с. 607. 98 Там же, с. 624–625. 99 Л.А. Арбатский. Последняя тайна рейха. Выстрел в фюрербункере. Дело об исчезновении Гитлера. М., 2002, с. 75–77. 100 Например: В.И. Дашичев. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе. 1933–1945. // Исторические очерки, документы и материалы. В четырех томах. М., 2005. / Том 4. Крах оборонительной стратегии Гитлера. Разгром Третей империи. 1943–1945, с. 169–183. 101 Д. Сьюард. Указ. сочин., с. 315. 102 Там же, с. 338. 103 И. Фест. Триумф и падение в бездну, с. 543. 104 Г. Дуглас. Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербовочные беседы. М., 2000, с. 143. 105 М. Кох-Хиллебрехт. Указ. сочин., с. 41. 106 И. Фест. Триумф и падение в бездну, с. 551. 107 Женщина-пилот, уникальнейший летчик-испытатель. В апреле 1945 выполняла сложнейшую миссию, суть которой ускользнула от понимания историков. 108 Х.Р. Тревор-Роупер. Указ. сочин., с. 328–329. 109 Это легко установить по ее же показаниям. Однако, эта тема выходит за рамки данной нашей книги. 110 Прозвище (в сочетании с уменьшительным именем) прусского короля Фридриха II (1712–1786). 111 Т. Юнге. Воспоминания секретаря Гитлера. До последнего часа. М., 2005, с. 183. 112 Х.Р. Тревор-Роупер. Указ. сочин., с. 261–270. 113 В.И. Дашичев. «Совершенно секретно! Только для командования!»., с. 607. 114 Неизвестный Гитлер. / О. Гюнше, Г. Линге. М., 2006, с. 394. 115 По старому стилю. 116 Жена Ленина. 117 М.В. Фофанова. Последнее подполье. // В дни Октября. Воспоминания участников Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Л., 1982, с. 173, 174. 118 В. Мазер. Указ. сочин., с. 93. 119 Имеется в виду — до Первой Мировой войны. 120 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 58. 121 И. Фест. Путь наверх, с. 40. 764 Точнее — 54 с половиной года. 765 А. Гитлер. Указ. сочин., с. 14. 766 В немецком оригинале употреблено слово Baumeister, не имеющее точного перевода на русский; буквально — мастер по строительству; более точно по смыслу — градостроитель, создатель зданий и городов. 767 В. Мазер. Указ. сочин., с. 80. 768 Там же. 769 И. Фест. Путь наверх, с. 52–54. 770 Там же, с. 52. 771 Там же. 772 W. Maser. Op. cit. S. 81; К. Залесский. НСДАП, с. 447. 773 В. Мазер. Указ. сочин., с. 43. 774 W. Maser. Op. cit. S. 482. 775 Ebenda, S. 81. 776 В. Мазер. Указ. сочин., с. 109. 777 W. Maser. Op. cit. Tafel 3–4. 778 В. Мазер. Указ. сочин., с. 77. 779 Там же. 780 Там же. 781 Там же, с. 117. 782 А. Буллок. Указ. сочин., т.1, с. 24. 783 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 150. 784 В. Мазер. Указ. сочин., с. 108. 785 Мы приводим их ниже — в разделе 4.4. 786 В. Мазер. Указ. сочин., с. 81–82. 787 Там же, с. 82–85. 788 И. Фест. Путь наверх, с. 36. 789 В. Мазер. Указ. сочин., с. 67. 790 Там же, с. 66–67. 791 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 42. 792 Там же, с. 117. 793 Там же, с. 47. 794 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 179. 795 Там же, с. 178. 796 В. Мазер. Указ. сочин., с. 290–291. 797 Там же, с. 309. 798 Т. Юнге. Указ. сочин… с. 214. 799 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 178. 800 Там же. 801 Там же, с. 178–179. 802 М. Кох-Хиллебрехт. Указ. сочин., с. 205. 803 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 179. 804 Там же, с. 131. 805 Там же, с. 112. 806 Там же, с. 115–117. 807 Дочь знаменитого фотографа Гитлера Генриха Хоффмана и будущая жена лидера Гитлерюгенда Бальдура фон Шираха, с 1940 года — гауляйтера и имперского наместника в Вене. 808 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 145. 809 В. Мазер. Указ. сочин., с. 309. 810 Там же, с. 297. 811 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 161–162. 812 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 199–200. 813 В. Мазер. Указ. сочин., с. 36. 814 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 183. 815 Изумительная формулировка, заметим мы! 816 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 163–164. 817 Там же, с. 146. 818 Упомянутый учитель пения в Мюнхене. 819 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 203. 820 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 146. 821 Николай Павлович Брюханов (1878–1938), нарком продовольствия (1921–1924) и финансов (1926–1930) СССР. 822 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 151–152. 823 Там же, с. 154. 824 Там же, с. 155. 825 Там же, с. 147. 826 Там же, с. 147, 155. 827 Домохозяйка Гитлера еще в 1922–1923 гг.: Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 57–58, 196. 828 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 151. 829 Там же, с. 152. 830 Там же, с. 148. 831 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 201. 832 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 152. 833 Там же, с. 151. 834 Там же, с. 150–151. 835 Однофамилец шефа Гестапо. 836 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 149–150. 837 К. Залесский. НСДАП, с. 184. 838 Там же, с. 159. 839 К. Залесский. НСДАП, с. 184–185. 840 Там же, с. 185. 841 Так в тексте; правильно — Шрек. 842 Франц Шварц — казначей НСДАП с 1925 г. и до возвышения Бормана. В мае 1945 уничтожил финансовые документы НСДАП, хранившиеся в «Коричневом доме». Арестован американцами и умер в лагере военнопленных в 1947 году. 843 Еще один однофамилец шефа Гестапо; застрелился 23 мая 1945. 844 «Volkischer Beobachter» — центральный орган НСДАП, издававшийся в Мюнхене. 845 Автор этих строк не устает восхищаться переменами, происходящими в русском языке. Во времена его детства сводными назывались братья и сестры, имевшие разных родителей, поженившихся, уже имея детей; они были, таким образом, сведены браком их родителей; единокровными называли братьев и сестер, имевших одного отца, но разных матерей; единоутробными — имевших одну мать, но разных отцов; по этой логически безупречной терминологии Адольф Гитлер и Ангела Раубаль были единокровными братом и сестрой. 846 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 201. 847 Там же. 848 Там же, с. 203. 849 Там же, с. 201–202. 850 Учитывая, что осмотр производился примерно в 11 часов 19 сентября, это указывет на время смерти от 17 до 18 часов 18 сентября; выше мы уже высказывались относительно точности такой «экспертизы». 851 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 159–160. 852 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 202. 853 Там же. 854 Там же. 855 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 278. 856 Там же, с. 162. 857 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 203. 858 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера., с. 162. 859 Там же, с. 170. 860 Там же, с. 163. 861 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 215. 862 В. Мазер. Указ. сочин., с. 290–291. 863 Краузе состоял слугой Гитлера с августа 1934 до увольнения в сентябре 1939: примечание К.А. Залесского — научного редактора русского издания книги А.М. Зигмунд. // А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 177. 864 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 177. 865 В. Мазер. Указ. сочин., с. 291. 866 К. Залесский. НСДАП, с. 151. 867 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 175. 868 Там же, с. 177–178. 869 Г. Кнопп. Указ. сочин., с. 193. 870 Социал-демократическая партия Германии. 871 А.М. Зигмунд. Женщины Третьего рейха, с. 8. 872 Там же, с. 11–12. 873 Там же, с. 23. 874 «Волк» — так, напоминаем, любил называть себя Гитлер. 875 А.М. Зигмунд. Женщины Третьего рейха, с. 32. 876 Там же, с. 40–42. 877 Там же, с. 45–46. 878 Там же, с. 46–47. 879 Там же, с. 43. 880 Там же, с. 62. 881 К. Залесский. НСДАП, с. 64. 882 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 148. 883 В. Мазер. Указ. сочин., с. 291. 884 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 148. 885 В. Мазер. Указ. сочин., с. 304. 886 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 183. 887 Вставка А.М. Зигмунд. 888 То же самое. 889 А.М. Зигмунд. Лучший друг фюрера, с. 183–184. 890 Там же, с. 147. 891 В. Мазер. Указ. сочин., с. 233. 892 Т. Юнге. Указ. сочин., с. 182. 893 О. Штрассер. Указ. сочин., с. 128. 894 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 69. 895 Там же, с. 234. 896 Залесский относит окончательное изгнание Ангелы к февралю 1936 года: К. Залесский. НСДАП, с. 448. 897 В. Мазер. Указ. сочин., с. 57. 898 Там же, с. 309. 899 Л. Пикнетт, К. Принс, С. Прайор. Неизвестный Гесс. Двойные стандарты Третьего рейха. М., 2006, с. 75–76. И в имени первого автора, и в названии книги — грубейшие ошибки и искажения русского перевода. 900 М. Солонин. 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война? М., 2005, с. 486. 901 В. Штрик-Штрикфельдт. Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение. Изд. 3-е, М., 1993, с. 57–58. 902 М. Солонин. Указ. сочин., с. 392. 903 «Гриф секретности снят». Статистическое исследование. / Под ред. Г.Ф. Кривошеева. М., 1993, с. 385. 904 М.В. Захаров. Генеральный штаб в предвоенные годы. М., 2005, с. 230. 905 М.И. Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941 (Документы, факты, суждения) М., 2000, с. 486. 906 М. Солонин. На мирно спящих аэродромах… 22 июня 1941 года. М., 2006, с. 79. 907 Н.В. Якубович. Авиация СССР накануне войны. М., 2006, с. 354. 908 Г.У. Рудель. Пилот «Штуки». Мемуары аса люфтваффе. М., 2004, с. 4. 909 М.И. Мельтюхов. Указ. сочин., с. 484. 910 Там же. 911 Там же, с. 478. 912 К.Г. Маннергейм. Мемуары. М., 2004, с. 414. 913 Ф. Гальдер. Указ. сочин. Том 3, книга первая, М., 1971, с. 79–80. 914 В. Суворов. Беру свои слова обратно. Донецк, 2006, с. 31–32. 915 Убитыми, раненными и пропавшими без вести суммарно. 916 На самом деле — лишь две трети, но позднейшие потери подвели к последующему указанному количеству уцелевших самолетов. 917 В.В. Бешанов. Танковый погром 1941 года. (Куда исчезли 28 тысяч советских танков?). Минск, 2004, с. 509. 918 «Гриф секретности снят», с. 367. 919 В.В. Бешанов. Указ. сочин., с. 509. 920 Б.В. Соколов. Тайны Второй мировой. М., 2000, с. 36. 921 К. Типпельскирх. История Второй мировой войны. 1939–1945. М., 2003, с. 685. 922 Ф. Гальдер. Указ. сочин. Т. 2. М., 1969, с. 282. 923 В.Суворов. Очищение, с. 63–64. 924 С. Минаков. Указ. сочин., с. 610. 925 Один из ближайших соратников Сталина; убит или покончил с собой в феврале 1937. 926 Нарком по военным делам с 1925 по 1940. 927 Революционный Военный Совет — коллегия наркомата по военным делам. 928 Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 929 Политуправление. 930 Украинский военный округ. 931 С. Минаков. Указ. сочин., с. 619–620. 932 О.В. Хевнюк. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М… 1996, с. 36–37. 933 Точнее — все они были арестованы задолго или незадолго до 22 июня 1941 года, но несколько из них умерло в заключении или было расстреляно позднее этого срока. 934 Составлено нами по данным: О.Ф.Сувениров. Указ. сочин., с. 302–308. 935 Так тогда именовались адмиралы. 936 А. Колпакиди, Е. Прудникова. Указ. сочин., с. 425. 937 В. Суворов. Очищение, с. 43. 938 Б.В. Соколов. Разведка. Тайны Второй мировой войны. М., 2003, с. 33–34. 939 В.А. Брюханов. Заговор против мира, с. 254–276. 940 А. Колпакиди, Е. Прудникова. Указ. сочин., с. 425. 941 М.В. Захаров. Указ. сочин., с. 255. 942 Там же, с. 263–264. 943 М.И. Мельтюхов. Указ. сочин., с. 361. 944 Там же, с. 363. 945 Там же, с. 358. 946 А. Колпакиди, Е. Прудникова. Указ. сочин., с. 425. 947 М.И. Мельтюхов. Указ. сочин., с. 365. 948 К.Г. Маннергейм. Указ. сочин., с. 347, 348. 949 О.Ю. Пленков. Указ. сочин., книга I, с. 130. 950 И. Фест. Триумф и падение в бездну, с. 427. 951 Ее официальное наименование в немецких штабах. 952 А.В. Исаев. «Котлы» 1941-го. История ВОВ, которую мы не знали. М., 2006, с. 213. 953 Там же, с. 216. 954 Военно-воздушные силы. 955 А.В. Исаев. Указ. сочин., с. 216. 956 Противовоздушная оборона. 957 А.В. Исаев. Указ. сочин., с. 216. 958 Там же. 959 К.Ф. Телегин. Не отдали Москвы! М., 1968, с. 90. 960 Штаб тылового округа не располагал даже полноценным оперативным отделом. 961 Наземная служба наблюдения за самолетами противника. 962 Полковник, командующий ВВС округа. 963 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 85, 86, 88, 89–91, 93. 964 Народный комиссариат обороны. 965 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 94–96. 966 Восточный пригород Москвы, где, очевидно, находился аэродром. 967 Начальник Генерального штаба. 968 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 96–98. 969 Там же, с. 98. 970 Там же, с. 99. 971 Там же, с. 99–100. 972 Знаменитый секретарь Сталина. 973 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 100–102. 974 Там же, с. 106, 107. 975 Там же, с. 106. 976 А.В. Исаев. Указ. сочин., с. 232. 977 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 104. 978 Там же, с. 115. 979 Там же, с. 116. 980 Не названным по имени — это уже проявление каких-то политессов 1968 года! 981 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 116–117. 982 Там же, с. 117. 983 Это уже немногим больше ста километров от Москвы! 984 Высшие учебные заведения. 985 Звание, не прошедшее переаттестацию, свидетельствует о том, что его носитель был либо недавно призван из запаса, либо выпущен из тюрьмы или подвергался каким-либо другим притеснениям. 986 Сталин нередко употреблял это устаревшее название, говоря об органах госбезопасности. 987 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 114–115. 988 А.В. Исаев. Указ. сочин., с. 250. 989 Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. М., 1969, с. 334. 990 Там же, с. 335. 991 Там же. 992 А.В. Исаев. Указ. сочин., с. 231, 233. 993 Г.К. Жуков. Указ. сочин., с. 343. 994 Заместитель Конева — командующего фронтом. 995 Член Военного совета фронта; в 1947–1949 и 1953–1955 — министр вооруженных сил СССР; в 1955–1958 — председатель Совета министров СССР. 996 Начальник штаба фронта. 997 Г.К. Жуков. Указ. сочин., с. 336. 998 Там же, с. 336–337. 999 Т. Гладков. Лифт в разведку. «Король нелегалов» Александр Коротков. М., 2002, с. 281–282. 1000 В.Д. Шерстнев. Трагедия сорок первого. Документы и размышления. Смоленск, 2005, с. 210. 1001 Т. Гладков. Указ. сочин., с. 282. 1002 А.Б. Агатов. Дневники Йозефа Геббельса. Прелюдия «Барбароссы». Изд. 2-е, М., 2005, с. 352–361. 1003 Там же, с. 361. 1004 Г.К. Жуков. Указ. сочин., с. 338–340, 342. 1005 А.В. Исаев. Указ. сочин., с. 234. 1006 Ф. Гальдер. Указ. сочин. Том 3, книга вторая, М., 1971, с. 286. 1007 А.В. Исаев. Указ. сочин., с. 242–243. 1008 Там же, с. 265–266. 1009 Там же, с. 240. 1010 Там же, с. 232–233. 1011 Там же, с. 275. 1012 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 206. 1013 Например: Г. Подъяпольский. О времени и о себе. Франкфурт-на-Майне, 1978, с. 75–85; Л. Ларский. Мемуары ротного придурка. Иерусалим, с. 21–30; Ю. Лабас. Черный снег на Кузнецком. «Родина», 1991, № 6–7, с. 37–38. 1014 Выделено Переслегиным. 1015 С. Переслегин. Мировая война и кризис европейского военного искусства. // Б. Лиддел-Гарт. Энциклопедия военного искусства. СПб., 2003, с. 491. 1016 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 210. 1017 Выделено Батшевым. 1018 В. Батшев. Власов. Опыт литературного исследования. Части 1–3. Франкфурт-на-Майне, 2001, с. 183. 1019 Выделено нами. 1020 А.В. Исаев. Указ. сочин., с. 257–258. 1021 А. Кессельринг. Люфтваффе: триумф и трагедия. Воспоминания фельдмаршала Третьего Рейха. М., 2003, с. 140–141. 1022 А. Кларк. План «Барбаросса». Крушение Третьего рейха. М., 2004, с. 164. 1023 К.Ф. Телегин. Указ. сочин., с. 212–214. 1024 О.Ю. Пленков. Указ. сочин., книга I, с. 216–217. 1025 http: // www. hrono. ru / dokum / st19411106. html. 1026 Выделено нами. 1027 Там же. 1028 Выделено нами. 1029 О.Ю. Пленков. Указ. сочин., книга I, с. 221. 1030 Там же, с. 221–223. 1031 Там же, с. 221. 1032 Ф. Гальдер. Указ. сочин., т. 3, книга первая, с. 264. 1033 Разгром армии А.В. Самсонова в Восточной Пруссии. 1034 В. Мазер. Указ. сочин., с. 136–137. 1035 В.А. Брюханов. Заговор против мира, с. 288–292. 1036 Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945–1953. / Составители О.В. Хевнюк, Й. Горлицкий, Л.П. Кошелева, А.И. Минюк, М.Ю. Прозуменщиков, Л.А. Роговая, С.В. Сомонова. М., 2002, с. 349–358. 1037 Об этом мы уже упоминали: в связи с серийным убийцей — продавцом коровы. 1038 Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР, с. 344. 1039 В. Суворов. Тень победы. Донецк, 2005, с. 335–338, 348–349, 351. 1040 W. Maser. Op. cit. S. 67. 1041 В. Мазер. Указ. сочин., с. 81. 1042 Там же, с. 76. 1043 W. Maser. Op. cit. S. 67. 1044 Ebenda. 1045 Ebenda. 1046 В. Мазер. Указ. сочин., с. 81. 1047 W. Maser. Op. cit. S. 67–68. 1048 А. Гитлер. Указ. сочин., с. 18. 1049 Там же, с. 18–19. 1050 И. Фест. Путь наверх, с. 77. 1051 Д. Сьюард. Указ. сочин., с. 48. 1052 Г. Кнопп. Указ. сочин., с. 150–151. 1053 В. Мазер. Указ. сочин., с. 82–83. 1054 И. Фест. Путь наверх, с. 79. 1055 В. Мазер. Указ. сочин., с. 83. 1056 И. Фест. Путь наверх, с. 81. 1057 Б.С. Илизаров. Указ. сочин., с. 94. 1058 W. Maser. Op. cit. S. 478. 1059 Ebenda, S. 68. 1060 Ebenda. 1061 В. Мазер. Указ. сочин., с. 281–282. 1062 Там же, с. 283. 1063 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 206. 1064 Один из основателей НСДАП, инженер, разрабатывал политэкономические идеи социалистической направленности, отошел от активных ролей в 1936 году, умер в сентябре 1941. 1065 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 61. 1066 М. Кох-Хиллебрехт. Указ. сочин., с. 304. 1067 В. Мазер. Указ. сочин., с. 288. 1068 Там же, с. 288–289. 1069 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 335–336. 1070 М. Кох-Хиллебрехт. Указ. сочин., с. 271. 1071 В. Мазер. Указ. сочин., с. 214. 1072 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 167. 1073 Там же, с. 95. 1074 М. Кох-Хиллебрехт. Указ. сочин., с. 325. 1075 Э. Ханфштангль. Указ. сочин., с. 189. 1076 Там же, с. 150. 1077 К. Залесский. НСДАП, с. 640–641. 1078 М. Кох-Хиллебрехт. Указ. сочин., с. 326. 1079 Там же, с. 346. 1080 Там же, с. 331. 1081 Примечание К.А. Залесского // И. Фест. Путь наверх, с. 68. 1082 И. Фест. Путь наверх, с. 69. 1083 Там же, с. 68. 1084 В. Мазер. Указ. сочин., с. 242–243. 1085 А. Гитлер. Указ. сочин., с. 33. 1086 В. Мазер. Указ. сочин., с. 225–226. 1087 А. Гитлер. Указ. сочин., с. 34. 1088 Там же, с. 40. 1089 В. Мазер. Указ. сочин., с. 24–25. 1090 Книга Батюшина издана накануне Второй Мировой войны в эмиграции в Софии, переиздана в наши дни в Москве: Н.С. Батюшин. Тайная военная разведка и борьба с ней. М., 2002. Мы используем электронную версию: http: //www.fictionbook.ru/ ru/ author/ batyushin_nikolayi_stepanovich/ tayinaya_voennaya_razvedka_i_borba_s_neyi/ 1091 М. Ронге. Разведка и контрразведка. М., 1937, с. 25. 1092 Там же, с. 32. 1093 М. Ронге. Указ. сочин., с. 92. 1094 Там же. 1095 В. Мазер. Указ. сочин., с. 227–228. 1096 А. Гитлер. Указ. сочин., с. 36–37. 1097 В. Мазер. Указ. сочин., с. 242. 1098 И. Фест. Путь наверх, с. 79. 1099 W. Maser. Op. cit. S. 68. 1100 Ebenda, S. 79. 1101 И. Фест. Путь наверх, с. 79. 1102 По-русски — просто с высшим. 1103 Г. Кнопп. Указ. сочин., с. 151. 1104 И. Фест. Путь наверх, с. 79. 1105 А. Буллок. Указ. сочин., т. 1, с. 36. 1106 Г. Кнопп. Указ. сочин., с. 151. 1107 Там же. 1108 А. Буллок. Указ. сочин., т. 1, с. 36. 1109 Там же, с. 40. 1110 И. Фест. Путь наверх, с. 75–77. 1111 В. Мазер. Указ. сочин., с. 111. 1112 И. Фест. Путь наверх, с. 80. 1113 Там же. 1114 В. Мазер. Указ. сочин., с. 82–83. 1115 Там же. 1116 Там же, с. 84. 1117 Г. Кнопп. Указ. сочин., с. 152. 1118 В. Мазер. Указ. сочин., с. 87. 1119 Там же. 1120 Там же, с. 112. 1121 Г. Кнопп. Указ. сочин., с. 153. 1122 W. Maser. Op. cit. S. 68. 1123 Так в тексте; правильно* — начальник штаба 8-го корпуса полковник генерального штаба Альфред Редль. 1124 В. Мазер. Указ. сочин., с. 110. 1125 К.Ф.Шацилло. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. М., 2000, с. 214. 1126 А. фон Тирпиц. Воспоминания. М., 1957, с. 21–22. 1127 Там же, с. 21. 1128 Там же, с. 19. 1129 А.Ф.Редигер. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В двух томах. М., 1999, т. 1, с. 235. 1130 А. Боханов. Николай II. М., 1997, с. 131. 1131 Витте был уволен в отставку в 1903 году — перед началом войны с Японией, возвращен к власти на несколько месяцев в 1905–1906 годах, но не смог справиться с революцией, инициированной его собственными интригами; умер в 1915 году: В.А. Брюханов. Заговор против мира, с. 559–637. 1132 С.Ю. Витте. Указ. сочин., т. I, с. 9. 1133 В.А. Брюханов. Заговор против мира, с. 175–180. 1134 Там же, с. 45. 1135 Там же, с. 44–45. 1136 Н.П. Полетика. Сараевское убийство. Исследование по истории австро-сербских отношений и балканской политики России в период 1903–1914 гг. Л., 1930, с. 8–9. 1137 М. Алексеев. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Книга II. М., 1998, с. 190–198. 1138 Там же, с. 451. 1139 Так во многих странах называли службу, производившую негласную проверку почтовой корреспонденции. 1140 М. Ронге. Указ. сочин… с. 71. 1141 http: //www.fictionbook.ru/ ru/ author/ batyushin_nikolayi_stepanovich/ tayinaya_voennaya_razvedka_i_borba_s_neyi/ 1142 Р.У. Роуэн. И на старушку бывает прорушка. // А. Даллес. Асы шпионажа. М., 2004, с. 384–385. 1143 Н.В. Греков. Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы. М., 2000: militera.lib.ru /research/ grekov/ index.html. 1144 А. Петё: Albert Pethe «Oberst Redl». Глава из сборника «Секретные службы в мировой истории», под ред. проф. Вольфганга Кригера (Geheimdienste in der Weltgeschichte, herausg. v. Wolfgang Krieger, Verlag C.H. Beck, Munchen, 2003), перевод с немецкого: Виталий Крюков, Киев, odin1 @ i.com.ua_2005. 1145 Там же. 1146 Подробнее об этом — в наших будущих публикациях. 1147 А.И. Колпакиди. Энциклопедия военной разведки россии. М., 2004, с. 19. 1148 Там же. 1149 «Загадки и тайны ХХ века», http: // macbion. narod. ru/ spies/ redl2. htm. 1150 М. Ронге. Указ. сочин., с. 73. 1151 Там же, примечание редакции, с. 73. 1152 Там же, примечание редакции, с. 73. 1153 Там же, с. 74. 1154 Там же. 1155 Там же, примечание редакции, с. 74. 1156 Там же, с. 74. 1157 Там же, примечание редакции, с. 74. 1158 Там же, с. 74. 1159 «Загадки и тайны ХХ века», http: // macbion. narod. ru/ spies/ redl2. htm. 1160 А. Петё. Указ. сочин. 1161 М. Ронге. Указ. сочин., с. 75. 1162 Это заявление противоречит факту и содержанию приведенной записки Конрада от 26 мая 1913. 1163 «Загадки и тайны ХХ века». 1164 Там же. 1165 М. Ронге. Указ. сочин., с. 75. 1166 Там же. 1167 «Загадки и тайны ХХ века». 1168 Предполагаемый сексуальный партнер Редля. 1169 А. Петё. Указ. сочин. 1170 М. Ронге. Указ. сочин., предисловие, с. 4. 1171 Так называли Первую Мировую войну до начала Второй. 1172 Н.С. Батюшин. Указ. сочин. 1173 А. Петё. Указ. сочин. 1174 Н.С. Батюшин. Указ. сочин. 1175 И. Деревянко. Указ. сочин., с. 130–131. 1176 М. Ронге. Указ. сочин., с. 75–76. 1177 Н.П. Полетика. Указ. сочин., с. 3–8. 1178 М. Алексеев. Указ. сочин., Книга II, с. 198. 1179 М. Алексеев. Агент № 25. // Совершенно секретно. 1993, № 8. 1180 «Загадки и тайны ХХ века». 1181 А.А. Самойло. Две жизни. М., 1958, с. 86. 1182 М. Алексеев. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Книга II, с. 189–190. 1183 А.А. Самойло. Указ. сочин., с. 88. 1184 Главное управление Генерального штаба. 1185 А.А. Самойло. Указ. сочин., с. 110. 1186 М. Алексеев. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Книга II, с. 189–191. 1187 Там же, с. 197–198. 1188 Румыния вступила в войну против Австро-Венгрии лишь в августе 1916. 1189 Явная опечатка; правильно — 8-й. 1190 М. Ронге. Указ. сочин., с. 76. 1191 А. Петё. Указ. сочин. 1192 В.А. Брюханов. Заговор графа Милорадовича, с. 242–249; В.А. Брюханов. Заговор против мира, с. 247–249, 278–294; В. Брюханов. Мифы и правда о восстании декабристов, с. 389–402. 1193 Министр иностранных дел Австро-Венгрии. 1194 М. Ронге. Указ. сочин., с. 37–38. 1195 М. Алексеев. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Книга II, с. 517. 1196 Е. Волков, Н. Егоров, И. Купцов. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. Биографический справочник. М., 2003, с. 93. 1197 Имеется в виду падение монархий в России и в Австро-Венгрии. 1198 Это, вероятно, и был Батюшин, про которого известно, что он в 1930 году по собственной инициативе встречался с Николаи и с Ронге: предисловие к цитированной книге Батюшина, авторы — И.И. Васильев и А.А. Зданович. 1199 М. Ронге. Указ. сочин., с. 69–70. 1200 М. Алексеев. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Книга II, с. 518. 1201 Так в тексте, правильно — подполковник. 1202 Имеется в виду, по-видимому, предвоенный кризис после убийства Франца Фердинанда в Сараево, когда пресса накаляла страсти, влияя на поведение правительств. 1203 М. Ронге. Указ. сочин., с. 64. 1204 Ныне — Загреб. 1205 М. Ронге. Указ. сочин., с. 64. 1206 Преемник Эренталя, умершего в 1912 году. 1207 М. Ронге. Указ. сочин., с. 68–69. 1208 Там же, с. 69. 1209 В. Ярхо. Венская паутина. // «Огонек» № 31 (4810), август 2003 // http: // www. Agentura. ru / forum / arhive 2003 / 8151. html. 1210 Н.С. Батюшин. Указ. сочин. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |
||||
|
|
||||